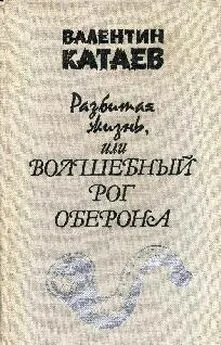Валентин Катаев - Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона [Рисунки Г. Калиновского]
- Название:Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона [Рисунки Г. Калиновского]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Детская литература
- Год:1973
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валентин Катаев - Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона [Рисунки Г. Калиновского] краткое содержание
Книга о детстве, о познании окружающего мира чуткой и восприимчивой душой ребенка. Построена на воспоминаниях писателя о своем детстве.
Рисунки Г. Калиновского.
Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона [Рисунки Г. Калиновского] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
…не знаю почему, но в детстве и в юности у меня без всяких видимых причин вдруг вскакивала температура до сорока, даже до сорока одного, а потом так же быстро, внезапно падала до нормальной, и таким образом, проболев несколько часов и напугав всех домашних, я снова делался здоровым и свежим как огурчик…
— Все-таки, Пьер, ему надо дать порошки, — сказала мама.
— Зачем? — спросил папа.
— Потому что это прописал сам Линтварев, — ответила мама, произнося слово «Линтварев» как имя какого-то божества.
Линтварев и считался божеством. Он был страшно дорогой и модный детский врач, считавшийся всемогущим.
— Ах, этот Линтварев! — воскликнул папа, в котором вдруг заговорило все его толстовское неверие в докторов. — Доктора только людей морят, — пробормотал папа.
— Пьер, ты крайний нигилист! — воскликнула мама. — Надо что-нибудь одно: или верить доктору, или не верить!
— В медицину я верю, — упрямо сказал папа, — а докторам не верю. В особенности во всяких Линтваревых. Взял за визит пять рублей и прописал ребенку какую-то чепуху, а ребенок выздоровел сам по себе, без всяких лекарств. Природа победила! — прибавил папа торжественно. — Впрочем, — сказал он, — если хочешь, можешь дать ребенку порошок. Надеюсь, от него вреда не будет.
Мама принесла стакан кипяченой воды из самовара и открыла коробочку с порошками, но тут папа, надев пенсне, стал читать рецепт, и вдруг лицо его побагровело.
— Каломель! — закричал он в негодовании.
— Ну и что же? — спросила мама.
— Это сильнейшее и опаснейшее слабительное, почти яд, — ответил папа. — Я не позволю, чтобы моему ребенку давали отраву.
— Пьер, опомнись! — воскликнула мама. — Но ведь это прописал сам Линтварев! Он великий специалист по детским болезням!
Но папа продолжал кипятиться:
— Какой он там специалист. Он просто грубый коновал. Ему бы лечить коров, а не маленьких детей. Нет, ты только подумай: он прописал нашему ребенку лошадиную дозу каломели.
— Ну все-таки… — сказала мама. — Я дам ему всего один порошок.
— Ни за что! Ни полпорошка! — закричал папа. — Я не позволю травить ядом нашего сына. В печку его, в печку!
И не успела мама произнести «ах!», как папа в развевающемся сюртуке с порошками в руке очутился возле печки, с поразительной быстротой отвинтил медный запор герметической заслонки, откинул ее в сторону и, весь озаренный жаром раскаленных дубовых дров, яростно бросил в трескучий огонь нарядную аптекарскую коробочку, которая в один миг вместе со всеми линтваревскими порошками превратилась в черный комок пепла, улетевшего в трубу.
Затем папа закрыл двойную чугунную заслонку, завинтил медный винт и, сразу успокоившись, виновато подошел к маме:
— Извини, Женечка, но — ей-богу! — я был прав.
Не знаю, что ответила мама, так как я уже сладко спал, положив по своему обыкновению руки ковшиком под щеку.
Папин завтрак.
Повязавшись белым фартуком, мама жарила на кухне котлеты. На глазах у меня плоские розовые сырые котлеты, слепленные из рубленого мяса, вспухали, покрывались коричневой корочкой, и когда мама, желая проверить степень их готовности, надкалывала их вилкой, из них с шипеньем брызгал горячий говяжий сок, наполняя кухню до того аппетитным запахом, что у меня слюнки текли. Мама была мастерица жарить котлеты и жарила их сама, особенно в тех случаях, когда они предназначались на завтрак папе.
Два раза в неделю папа давал уроки в юнкерском училище, и мама посылала ему туда завтраки с моей бонной, а попросту говоря, няней, — белокурой рижской немочкой по имени Амалия, которую некоторые наши гости игриво называли:
— Амалия и так далее…
Что заставляло Амалию краснеть, а маму — грозить остряку средним пальцем с маленьким обручальным кольцом.
…Мама раскладывала на столе твердо накрахмаленную салфетку с нашей семейной меткой гладью и заботливо, словно совершая некий важный и приятный ритуал, заворачивала в нее пухлые, еще горячие котлеты, вложенные между ломтями белого хлеба, так называемого «арнаута», который быстро пропитывался котлетным соком — вкусной коричневой подливкой…
Салфетка завязывалась сверху узелком, и Амалия брала папин завтрак в руки, уже одетая в тальму и шляпку, в то время как мама надевала на меня пальтишко, причем я все время не попадал вывернутыми руками в рукава, а потом, вытащив мои пухлые кулачки наружу, мама застегивала у меня на горле тугой крючок и на всякий случай надевала на мои ноги суконные — на резине — ботики. «Амалия и так далее» на всякий случай брала свернутый зонтик, и мы отправлялись по Французскому бульвару, еще называвшемуся тогда Среднефонтанской дорогой, в юнкерское училище, стараясь не опоздать к большой перемене, которую возвещали звуки трубы, слышные далеко вокруг большого казенного, по-военному мрачного здания юнкерского училища, выкрашенного в казарменный желтый цвет, всегда наводивший на мою душу уныние и еще какое-то сложное чувство нелюбви ко всему военному.
Тогда еще перед юнкерским училищем не было ни сквера, как стало позднее, ни стадиона, как теперь, а был громадный, заваленный мусором и поросший почерневшим бурьяном пустырь, вернее овраг, над которым жесткий ветер поздней осени или очень ранней весны нес облака холодной пыли и с такой силой бил в лицо, что мы с Амалией принуждены были время от времени поворачиваться спиной и идти задом наперед, причем Амалия с трудом удерживала рукой в кружевной перчатке свою рижскую шляпку, готовую всякий миг улететь в серое от пылевых смерчей небо, где ныряли и кувыркались бумажные змеи, запущенные мальчишками с Новорыбной улицы.

…раздувались и трещали накрахмаленные юбки Амалии…
Часто в эти дни в мой глаз попадала соринка, песчинка, натирала мне веко, и потом ее долго удаляли разными способами: то мама, вывернув мне веко, осторожно вылизывала ее языком и я чувствовал на лице мамино влажное, теплое дыхание, то Амалия наливала чайный стакан кипяченой водой — доверху, всклянь, — и я опускал в него изо всех сил вытаращенный глаз и держал его в воде до тех пор, пока песчинка или соринка сама собой не вымывалась из глаза.
И — боже мой! — какое я тогда испытывал наслаждение после адских мук, причиненных моему нежному глазу острой, граненой песчинкой с юнкерского пустыря.
…это еще были остатки Одессы пушкинских времен, «Я жил тогда в Одессе пыльной…»
Мы проникали в юнкерское училище с парадного хода с тяжелой дверью и поднимались по мраморной лестнице в два марша мимо белого гипсового бюста царствующего императора Николая II, поставленного на мраморную полочку, приделанную к белой стене. На гипсовую голову императора с косым пробором постепенно оседала пыль, так что его макушка была несколько темнее бородки и щек под неподвижно-лучистыми августейшими глазами, что придавало облику императора странное выражение запущенности, обреченности.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Валентин Катаев - Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона [Рисунки Г. Калиновского]](/books/619077/valentin-kataev-razbitaya-zhizn-ili-volshebnyj-rog.webp)