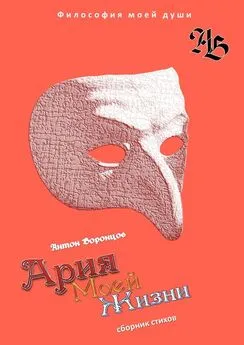СКАЗКА МОЕЙ ЖИЗНИ
- Название:СКАЗКА МОЕЙ ЖИЗНИ
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
СКАЗКА МОЕЙ ЖИЗНИ краткое содержание
СКАЗКА МОЕЙ ЖИЗНИ - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Ламартин показался мне благодаря всей окружавшей его обстановке и манерам каким-то королем среди французских литераторов. Я извинился, что так плохо говорю на его родном языке, а он с изысканной французской вежливостью ответил, что это он заслуживает упрека за то, что не понимает северных языков, на которых, как он узнал, существует такая свежая и богатая литература. На севере и почва ведь так богата, что стоит только наклониться, чтобы поднять древний золотой рог! (Намек на первое знаменитое стихотворение Эленшлегера «Золотые рога» . — Примеч. перев. ) Перед моим отъездом из Парижа Ламартин написал мне следующее маленькое стихотворение:
Cachez vous quelquefois dans les pages d'un livre
Une fleure du matin cueilliee aux rameaux verds,
Quand voux rouvrez la page apres de longs hyvers,
Aussi pur qu'au printemps son parfum vous ennyvre,
Apres les jours bornfis qu'ici mon nom doit vivre
Qu'un heureux souvenir sorte encore de ces vers!
Paris, 3 Mai 1843.
Lamartine».
Жизнерадостного Александра Дюма я заставал обыкновенно в постели, хотя бы дело было и далеко за полдень. У постели всегда стоял столик с письменными принадлежностями — он как раз писал тогда новую дpaму. Однажды, когда я пришел к нему и застал его опять в таком же положении, он приветливо кивнул мне головой и сказал: «Посидите минутку — у меня как раз с визитом моя музa, но она сейчас уйдет!» И он продолжал писать, громко разговаривая с самим собою. Наконец, он воскликнул: «Vivat!», выпрыгнул из постели и сказал: «Третий акт готов!» Жил он в «Hotel de Prince» на улице Ришелье. Жена его находилась во Флоренции, а сын, пошедший впоследствии в литературе по стопам отца, жил отдельно. «Я живу холостяком! Не взыщите — каков есть!» — говаривал он мне. Однажды он целый вечер водил меня по разным театрам, чтобы познакомить с закулисным миром. Мы побывали в «Пале-Рояле», разговаривали с Дейазет и Анапе, а потом пошли под ручку по бульвару к театру St. Martin. «Теперь можно заглянуть в царство коротеньких юбочек! — сказал Дюма. — Зайти что ли туда?» Мы зашли и очутились среди кулис и декораций, прошлись по морю из «Тысячи и одной ночи» , словом, как будто попали в сказочное царство, где царили шум, гам, толкотня машинистов, хористов и танцовщиц. Дюма был моим путеводителем в этом закулисном лабиринте. На обратном пути домой нас остановил на бульваре какой-то юноша. «Это мой сын! — сказал Дюма. — Я обзавелся им когда мне было восемнадцать лет, теперь он в таких же летах, а у него еще нет никакого сына!» Юноша был никто иной как знаменитый впоследствии Александр Дюма-сын.
Дюма же обязан я знакомством с Рашелью. Я еще ни разу не видел ее на сцене, как вдруг он однажды спросил меня, не xoчу ли я познакомиться с нею. Да это было моим заветнейшим желанием! И вот в один вечер, когда Рашель играла «Федру» , Дюма повел меня в Theatre francais. Бывая со мною в других театрах, он обыкновенно без всяких церемоний прямо вел меня за кулисы, а тут попросил меня подождать немного и потом уже, вернувшись обратно, позвал меня к королеве французской сцены. Представление уже началось; мы прошли за одну из передних кулис, за которой было отгорожено ширмами что-то вроде отдельной комнатки, где стоял стол с прохладительными напитками и яствами и несколько табуретов. Здесь сидела молодая женщина, та самая, которая, по словам одного французского писателя, могла изваять из мраморных глыб Расина и Корнеля живые статуи. Она была очень худощава, нежного сложения и очень моложава на вид. На меня она и здесь, и позже у себя дома произвела впечатление статуи скорби. Она как будто только что выплакала все свое горе, и теперь мысли ее тихо витали в прошлом. Рашель приняла нас очень приветливо, голос у нее был низкий, грудной. Разговорившись с Дюма, она как будто забыла обо мне; он, должно быть, заметил это и, обернувшись ко мне, сказал ей: «Вот истинный поэт и ваш искренний почитатель! Знаете вы, что он сказал мне, когда мы подымались по лестнице? «Со мною, того и гляди, сделается дурно, так бьется у меня сердце при мысли, что я сейчас буду говорить с женщиной, говорящей по-французски прекраснее всех во Франции». Она улыбнулась, сказала мне несколько приветливых слов. Я ободрился, вмешался в разговор и сказал, что прибыл в Париж главным образом ради нее: я много путешествовал и много видел интересного и прекрасного, но еще не видал Рашели! Затем я извинился, что так плохо говорю по-французски. Она опять улыбнулась и ответила: «Ну, если вы будете обращаться к француженке с такими любезными речами, как сейчас ко мне, то она всегда найдет, что вы говорите прекрасно!» Я сообщил ей, что слава ее достигла и Севера. «Если я когда-нибудь попаду в Петербург и в Копенгаген, — сказала она, — то попрошу вас быть там моим покровителем. Кроме вас, я ведь никого там не знаю, И вот, если вы, по вашим словам, прибыли сюда отчасти ради меня, то надо нам познакомиться поближе — милости прошу побывать у меня. Я принимаю своих друзей по четвергам. А теперь... служба зовет!» — закончила она, протягивая нам руку, приветливо кивнула головой и, отойдя от нас на несколько шагов в глубину сцены, сразу как-то выросла, изменилась до неузнаваемости. Перед нами была сама муза трагедии. Из зрительного зала долетел к нам приветствовавший ее взрыв аплодисментов.
Я, как северянин, не могу привыкнуть к французской манере играть трагедию. Рашель играет, как и другие, но у нее все выходит естественно. Все же остальные только как будто копируют ее. Рашель — сама муза французской трагедии, другие актеры и актрисы только жалкие люди. Глядя на игру Рашели, трудно и представить себе иную манеру игры, ее игра — сама правда, сама естественность, но в ином их проявлении, нежели привыкли мы, северяне.
Обстановка в квартире Рашели была роскошна, может быть, чересчур рассчитана на эффект... В первой комнате, зеленовато-бирюзовой, висели лампы с матовыми абажурами и красовались статуи французских писателей. В гостиной — ив обоях, и в меблировке преобладал пурпуровый цвет. Сама Рашель была в черном платье и очень напоминала свой портрет на известной английской гравюре. Общество состояло из мужчин, преимущественно представителей искусств и науки. Впрочем, я услышал и два-три титула; имена гостей громко докладывались ливрейными лакеями. Угощение состояло из чая и прохладительных яств и напитков, скорее на немецкий, нежели на французский лад. При мне Рашель говорила и по-немецки; Виктор Гюго рассказывал, что он слышал, как она раз говорила по-немецки с Ротшильдом, и я спросил ее правда ли это. Она ответила мне по-немецки: «Да, я даже читаю на этом языке, я ведь уроженка Лотарингии. У меня есть и немецкие книги. Вот поглядите!» И она показала мне «Сафо» Грильпарцера, но затем опять перешла на французскую речь. Она высказала, между прочим, свое желание сыграть роль Сафо, потом заговорила о роли шиллеровской Марии Стюарт, которую она исполняла. Я видел ее в этой роли и никогда не забуду с каким истинным величием вела она сцену с Елизаветой. «Je suis la reine! Tu es... Tu es... Elisabeth!» И в это одно слово Elisabeth она вложила столько презрения, сколько не высказать другим и в целом монологе. Но особенно поразила меня Рашель в пятом действии, которое она вела с таким правдивым спокойствием, на какое только способна истинная северная или германская артистка, но именно в этом-то действии она менее всего и нравилась французам. «Мои соотечественники, — сказала она мне, — не привыкли к такой передаче этой сцены, а между тем никакая иная здесь неуместна. Нельзя неистовствовать, когда сердце готово разорваться от скорби, когда прощаешься навеки со всеми своими друзьями!»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:


![Ганс Андерсен - Сказка моей жизни [litres]](/books/1067166/gans-andersen-skazka-moej-zhizni-litres.webp)