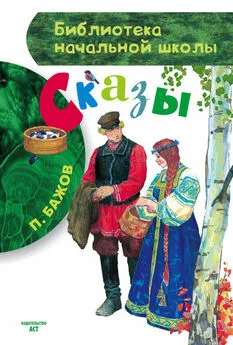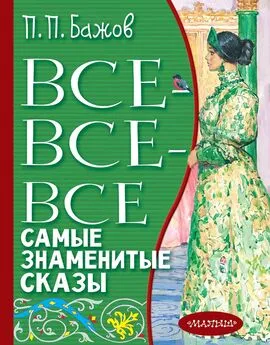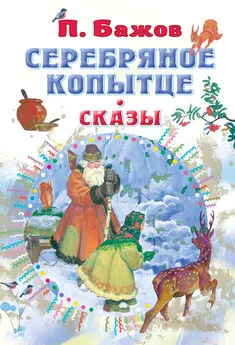Павел Бажов - Уральские сказы — II
- Название:Уральские сказы — II
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Государственное Издательство художественной литературы
- Год:1952
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Павел Бажов - Уральские сказы — II краткое содержание
Второй том сочинений П. П. Бажова содержит сказы писателя, в большинстве своем написанные в конце Великой Отечественной войны и в послевоенные годы. Открывается том циклом сказов, посвященных великим вождям народов — Ленину и Сталину. Затем следуют сказы о русских мастерах-оружейниках, сталеварах, чеканщиках, литейщиках. Тема новаторства соединена здесь с темой патриотической гордости русского рабочего, прославившего свою родину трудовыми подвигами Рассказчик, как и в сказах первого тома, — опытный, бывалый горщик. Но раньше в этой роли выступал «дедушка Слышко» — «заводской старик», «изробившийся» на барских рудниках и приисках, видавший еще крепостное право. Во многих сказах второго тома рассказчиком является уральский горщик нового поколения. Это участник гражданской войны, с оружием в руках боровшийся за советскую власть, а позднее строивший социалистическое общество. Рассказывая о прошлом Урала, он говорит о великих изменениях, которые произошли в жизни трудового народа после Октябрьской революции Подчас в сказах слышится голос самого автора, от лица которого и ведется рассказ
Уральские сказы — II - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
III
Полевский завод был первым по времени и едва ли не самым многолюдным в Сысертском заводском округе. Правда, в Сысертской волости считалось в 90-х годах свыше одиннадцати тысяч населения, но там это число приходилось на четыре поселка — Сысерть, Верхний завод, Ильинский и деревню Кашину. Здесь же волость состояла из одного заводского поселка, в котором жило свыше семи тысяч. Северская волость, куда входили Северский завод и деревня Косой Брод, была значительно меньше: в обоих селениях этой волости не насчитывалось и четырех тысяч.
Между тем фабричное оборудование в заводском округе к тому времени оказалось расположенным как раз обратно числу населения заводских поселков.
Лучше других было положение северчан. Там тогда действовали две доменных печи, одна отражательная, две мартеновских, две сварочных, одна газо-пудлинговая и одна листокатальная. Всего на Северском заводе было занято свыше пятисот человек. В переводе же на язык сравнительных цифр это значило, что на фабричной работе был занят каждый восьмой или даже седьмой человек.
В Сысертской части на одиннадцать тысяч населения приходилось две доменных печи, одна отражательная, восемь газо-пудлинговых, шесть сварочных, три листокатальных, две листораспарочных и две вагранки. Занято было тысяча сто рабочих, или один на каждый десяток населения.
В Полевском же заводе на семь тысяч населения имелось четыре пудлинговых, три сварочных печи да архаическая медеплавильная, в которой изредка «варились крошки старого рудника». Фабричных рабочих по заводу было меньше трехсот пятидесяти, или один на двадцать человек населения.
Понятно, что эта особенность завода сразу была заметна и одиннадцатилетнему мальчугану.
На довольно ходовой в ребячьем быту вопрос: «где у тебя отец робит?», в Сысерти обычно слышалось в ответ: «в паленьговой», «на сварке», «под домной», «на механическу ходит», «на Верхний бегает», «листокаталем на Ильинском». Здесь же чаще отвечали совсем по-другому: «куренная наша работа», «из жигалей мы», «на лошадях робим», «на лошади колотится», «на людей в курене ворочает», «так, по рудникам да приискам больше», «старатель он», «золото потерял: пески переглядывает», «около мастерской кормится», «охотничает по зимам-то», «ремеслишко маленькое имеет».
Обычная в таких случаях ребячья гордость и похвальба слышалась разве у многолошадных да углежогов, остальные говорили невесело, иногда даже с пренебрежительной усмешкой, повторяя, очевидно, оценку взрослых в своих семьях.
В Полевском того времени, и верно, полудикую тяжелую, но относительно сытую жизнь вели лишь семьи, которые из поколения в поколение занимались углежжением. Обычно это были многолюдные и многолошадные семьи, которые большую часть времени жили в лесу. Летом «до белых комаров» заготовляли сено, и в остальное время года для всех было много работы по заготовке плахи, по укладке и засыпке куч. В работах принимали участие и женщины, и подростки. Слова: «куренная наша работа», «из жигалей мы» — означали не только профессию отца, но указывали и на личное участие в этой «наследственной» работе. Впрочем, далеко не все подростки хвалились этой работой, чаще жаловались:
— Кожа к костям присохнет, как из куреня воротишься. Заморил нас всех дедушко. Ему бы только работай, а похлебать одной поземины, да и то не досыта. А ему одно далось: «Робь, не ленись! Урежу вот бадогом-то! Не погляжу на отца с матерью!»
Положение подростков и особенно, молодых женщин, которых «таскали в лес с пеленишными ребятами», было, действительно, крайне тяжелое, и только суровая власть старшего в семье могла удержать от распада эти семейные коллективы углежогов.
О положении наемных рабочих — хоть редко, а все-таки это бывало — едва ли надо говорить. Таким горемыкам приходилось жить впроголодь, в самых первобытных условиях и «ворочать во-всю», а плату тут ужать умели.
Жили углежоги своей особой, замкнутой жизнью, «знались и роднились» преимущественно с такими же углежогами. Да надо сказать, что и девушки «со стороны» редко по доброй воле выходили замуж в семьи таких углежогов, — на каторжную куренную работу.
С одним из подобных семейств «мы приходились в родстве», и мне изредка случалось видеть вблизи их домашнюю жизнь. Дом был довольно просторный, с «горницей, через сени». Горницей, однако, не пользовались. Там даже печь не топили, чтоб «ненароком не заглохло имущество в сундуках». С едой туда тоже нельзя было входить, — еще мышей приманишь! Пол был устлан половиками трех сортов (по числу невесток в семье), но сверх половиков были набросаны рогожи. В горнице стояли три кровати «в полном уборе», но никто на них не спал, шкафы с посудой, которой никто не пользовался и сундуки тремя «горками». Все это было своего рода выставкой, показом, что «живем не хуже добрых людей», единственной утехой женщин, которым пришлось жить в этом унылом доме.
Безвыездно жили в доме лишь старуха — мать хозяина — да его жена. Они «управлялись по хозяйству», водились с малышами, которых еще нельзя было брать в курень, и пекли хлеб для работавших в курене. Раз или два в неделю, в зависимости от погодных условий, за хлебом приезжали. Тогда же ввозили какой-нибудь приварок: сушеную рыбу, крупу.
Когда вся семья собиралась домой, ютились в «жилой» избе, которая тогда становилась не лучше куренной землянки.
Непривычным казалось наблюдать в этом доме необыкновенную строгость. Не только малыши и женщины были запуганы, но и взрослые женатые сыновья со страхом поглядывали на отца, спрашиваясь у него даже в бытовых мелочах.
Старик был именно тот хозяин, «который заморил всех на работе», чтоб в результате иметь необитаемую «горницу с имуществом» да полный двор скота.
Странно было, что этот суровый старик имел все-таки слабость. Ежегодно из своего конского поголовья он продавал одну или две лошади и покупал «необъезженных степнячков». Может быть, и здесь был скопидомский расчет купить «по круговой цене» редкую лошадь, но старик сам объезжал новокупок и обращался с ними куда ласковее, чем со своими семейными. Этой слабостью порой «спасались». Чтобы отвлечь внимание старика либо просто выжить его из избы, которая-нибудь из снох скажет:
— Тятенька, а Игренька-то ровно оберегает заднюю левую?
— Замолола! Кто тебя спросил? — цыкнет старик, но сейчас же спросит: — Кою, говоришь, оберегает? — и, получив ответ, сейчас же уходит к лошадям. Оттуда уж он не скоро вернется.
Кому нужно было поговорить со стариком, тот тоже начинал с лошадей. Старик оживлялся, находил много слов, и было удивительно, что этот грузный и довольно неуклюжий человек говорил не о возовой лошади, а о рысаке и «виноходце». Однако стоило заговорить о деле, как старик переходил на скупые ответы: «не знаем», «подумать надо», «не наше дело», «нас не касаемо».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

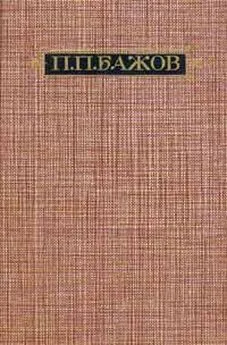
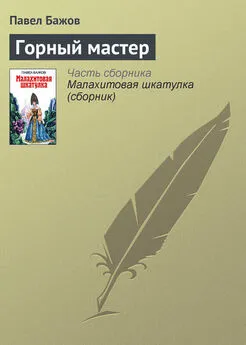
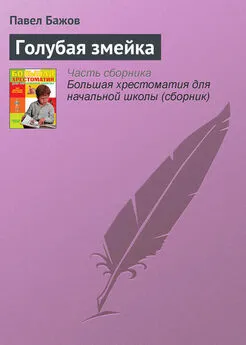
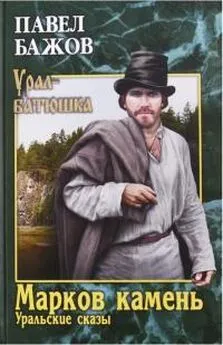
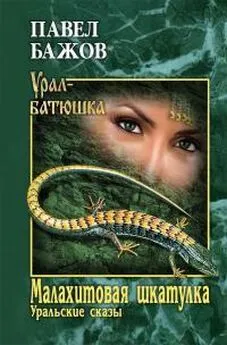
![Павел Бажов - Малахитовая шкатулка [Уральские сказы. Илл. А.Н. Якобсон]](/books/1086799/pavel-bazhov-malahitovaya-shkatulka-uralskie-skazy.webp)