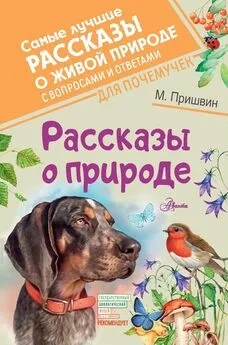Евгений Носов - На рыбачьей тропе (Рассказы о природе)
- Название:На рыбачьей тропе (Рассказы о природе)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Носов - На рыбачьей тропе (Рассказы о природе) краткое содержание
Рассказы, составившие этот раздел, характеризуют начальный период творчества Е. Носова, печатались во второй половине 50 — первом половине 60-х годов в курской молодежной газете «Молодая гвардия», в «Курской правде», «Курском альманахе», в журналах «Подъем», «Огонек», «Молодая гвардия», «Наш современник», в «Литературной газете», вошли в первые книги писателя: «На рыбачьей тропе» (Курск, 1958); «Рассказы» (Курск, 1959); «Тридцать зерен» (М., Мол. гвардия, 1961). По сравнению с первым изданием подавляющее большинство произведений переработано автором, в некоторых из них изменены заголовки.
На рыбачьей тропе (Рассказы о природе) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Господин Цубатака просит руса матроса строить два шеренга, — сказал нам переводчик, а сам скалит зубы, улыбается, такой, дьявол, вежливый был.
Построились. Ждем, что дальше будет. Ничего не понимаем, за что самовар искалечили. Из казармы вынесли рейку, офицер ткнул в нее пальцем, опять завизжал:
— Какая руса матроса ломала это?
Мы молчали.
Переводчик сказал, что, дескать, господину Цубатаке дюже жалко, что мы молчим, и он должен стрелять каждого второго матроса. «Вон куда обернулось дело! — подумал я. — За эту проклятую щепку всех перебьют». Глянул я вдоль шеренги, а матросы стоят пасмурные, страшные, на скулах желваки ходят. Ведь знают, что я поломал дранки, а не выдают. И, не поверите, забродила в моей груди какая-то хмель, ударила в голову. Радостно так стало, аж слезы навернулись. Эх, братушки! Да разве русского моряка штыком запугаешь? На-ка, выкуси!
Поправил я бескозырку, шагнул по всей форме из строя и говорю:
— Нате, стреляйте!
Подхватили меня солдаты, поволокли. Слышу, за спиной наши зашумели. «За что издеваетесь?» — кричат. Кинулись отнимать меня. Поднялась пальба. «Братухи! — кричу. — Не связывайтесь с ними, окаянными! А мне все едино. Я ведь еще под Цусимой должен был помереть!»
Кое-как загнали матросов в казарму, заперли. А меня поволокли за ворота. Лупили зверски. Прикрутили к пальме и секли бамбуковыми палками. Польют водой и опять лупят.
Целый месяц потом на циновках провалялся. Всю шкуру спустили. Ко мне потом переводчик все наведывался, подсядет рядом на корточки, скалит конские зубы и говорит:
— Твоя крепкая матроса. Скоро опять шибко бегать. — А сам тычет в угол, где эти самые рейки стояли, и приговаривает:
— Уй, как некарасо.
Оказывается, те самые зверюшки, что за ширмой на полках расставлены были, — их боги. А на планках записывали души погибших самураев — по пятьсот штук на каждую. Выходит, я сразу тыщу самураев в самоварную трубу запихнул. Знал бы, не трогал. Проку-то с них не шибко, разве что чайку б вскипятили.
Вот какая была, значит, история, — заключил Маркелыч и потрогал пальцами помятый бок самовара, не простыл ли. — Когда потом из плена уходили, я и его с собой прихватил. Жалко было бросать на чужбине. Да и то сказать, нам ведь обоим из-за этих самураев бока намяли. Только марку мы свою расейскую не потеряли. Луженые!
ПАЛТАРАСЫЧ
Солнечный луч отыскал в камышовой крыше куреня лазейку, угодил мне в глаза и разбудил. В треугольный просвет двери глядело погожее августовское утро. В деревне горланили петухи. Их возбужденные крики долетали непрерывно: то близкие, то далекие, а то почти совсем неуловимые, похожие на звон в ушах.
Снаружи тянуло дымком и запахом поспевающего кулеша. Дед Палтарасыч готовил завтрак. Сквозь камышовую стенку было слышно, как он, звякая ложкой по котелку, приговаривал:
— Побурли, милок, наберись наварцу.
С Павлом Тарасовичем, или, как зовут его в деревне, Палтарасычем, я познакомился вот при каких обстоятельствах.
Прошлой осенью повстречал я на областной сельскохозяйственной выставке своего старого знакомого — инженера Дмитрия Петровича Вешкина. Незадолго до этого он оставил завод и уехал работать в деревню. Его избрали председателем колхоза «Поднятая целина» в каком-то отдаленном сельце, название которого никак не запомню. То ли Заболотное, то ли Залесное, но не в названии дело. А в том, что человек попросился в самую глухомань.
— Ну и как? — полюбопытствовал я.
— А вот видишь, на выставку приехали. Показываемся. Пшеничку добрую привезли, бахчу, телят — ну, и рыбку.
Экспонаты колхоза «Поднятая целина» были разбросаны по всей выставке. «Пшеничку» и «бахчу» мы осматривали в районном павильоне. Потом отправились в отдел животноводства и полюбовались на тройку большеглазых телят чистеньких, в чуть наметившихся, цвета топленого молока, пятнышках.
— А вот и наша рыбка, — сказал Вешкин, подойдя к огромному, как фургон, аквариуму. — Сто тысяч доходу получили.
Массивную посудину из дерева и стекла плотным кольцом окружили ребятишки, наверняка рыболовы. Они с завистью разглядывали полупудового карпа, развалившегося на песчаном дне аквариума. Карп был действительно завиден! Крутолоб, могуч, дороден. В нем было что-то бычье. И в тупой короткой морде, и в широченной спине, изогнутой крутым горбом, и в том, что он лениво шлепал губами, будто пережевывал жвачку. А какой хвостище! Он все время чуть шевелился, но и этого было достаточно, чтобы вода кругом ходила ходуном. Иногда карп словно вздыхал, как вздыхает сытая скотина, и тогда из его рта вырывалась сильная струя воды, взвихривая песок и крутя воронки.
У аквариума, не замечая нас, ходил длинный костлявый старик в соломенной шляпе. Большим алюминиевым ковшом он вылавливал яблочные огрызки, куски печенья и булок, которые, забавляясь, то и дело забрасывали в аквариум ребятишки.
— Цыц, бесенята! — взмахивал редкой бородой старик и устрашающе потрясал над головой ковшом. — Понимать надо!.. Думаешь, ты ему приятность оказываешь своим печеньем? От этого одно помутнение воды получается. Никакого продыху рыбе от вас нету, мошкара голопятая!
Старик плюхнулся на стул, сорвал с себя шляпу, обнажив всю в испарине шоколадную лысину, и по-рыбьи глотнул воздух.
— Загоняли, шельмецы, замаяли!..
Он устало оглядел своих противников и нахлобучил шляпу.
— В нашем колхозе рыба не простая. Не дичь какая-нибудь. Наша рыба с пониманием, с дисциплиной. Обитание свое проводит по распорядку дня. Пришел час — отдыхает, пришел другой — гуляет. И кушает тоже по часам.
— Вот заливает!.. — послышалось сзади.
— И физзарядку выполняет — все честь по чести. Вот какая, значит, у нас рыба. А раз такая у нас рыба заведена, то и обращение должно быть с нею деликатное. Вы вот разную сладость бросаете, а то вам невдомек, что перед вами не какой-нибудь глупый карп представлен для обозрения, а настоящий артист. От тебе утречком, на восходе солнца, такую кадриль выкинет, не гляди, что полпуда весом, а что твоя балерина какая. Особенно если на рожке сыграть.
Председатель колхоза смотрел на всю эту компанию и улыбался.
— Прибаутки рассказывает? — спросил я у него.
— Палтарасыч-то? А вот приезжай — увидишь…
И вот я живу под гостеприимной кровлей Палтарасычева шалаша. Он стоит километрах в трех от села в лесистой балке. Когда-то по дну балки бежал робкий ручеек. Его перегородили плотиной. Весной разлился пруд гектаров на пятьдесят. Завели в нем рыбу, а Полтарасыча назначили ее управителем.
В заливчике, на берегу которого ютился шалаш, Палтарасыч расчистил дно, посыпал его песком, а над этим местом построил помост. Каждый вечер, набрав в сумку корма, старик шел по мосткам и рассыпал пригоршнями подкормку.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

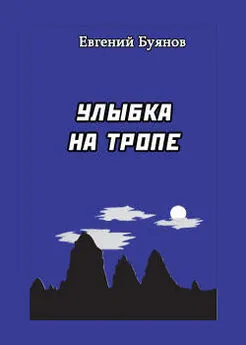
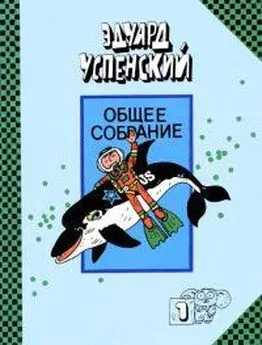
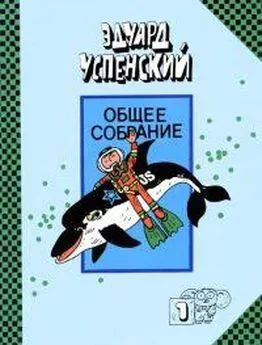
![Евгений Носов - Где просыпается солнце? [Рассказы]](/books/1076723/evgenij-nosov-gde-prosypaetsya-solnce-rasskazy.webp)
![Евгений Носов - Красное вино победы. Шопен, соната номер два [Рассказ, повесть]](/books/1095967/evgenij-nosov-krasnoe-vino-pobedy-shopen-sonata-n.webp)