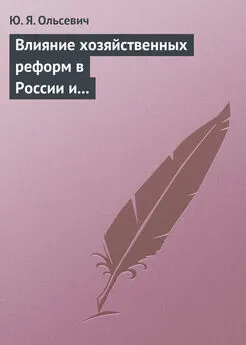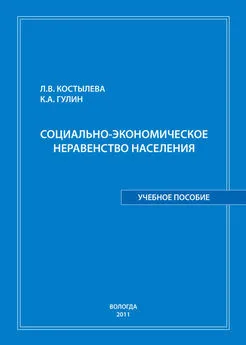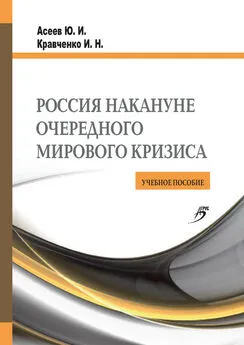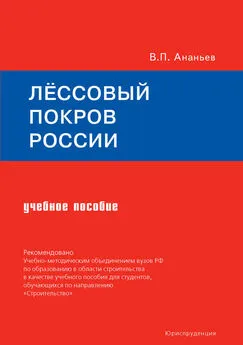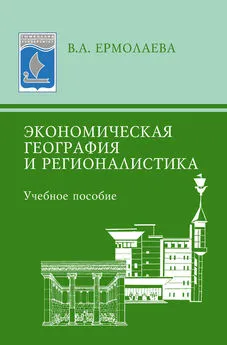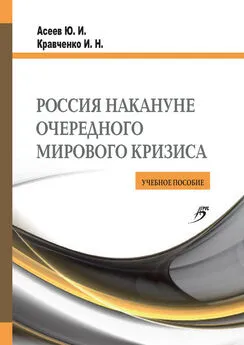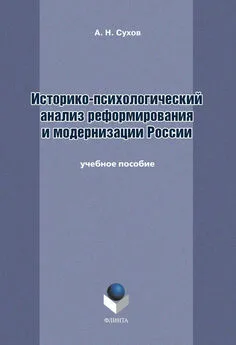Ю. Ольсевич - Влияние хозяйственных реформ в России и КНР на экономическую мысль Запада. Учебное пособие
- Название:Влияние хозяйственных реформ в России и КНР на экономическую мысль Запада. Учебное пособие
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Экономический факультет МГУ
- Год:2007
- Город:Москва
- ISBN:5-16-002035-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ю. Ольсевич - Влияние хозяйственных реформ в России и КНР на экономическую мысль Запада. Учебное пособие краткое содержание
Для студентов магистратуры экономического факультета МГУ и для студентов и преподавателей вузов, где читаются история экономических учений, экономическая теория и история.
Учебный курс подготовлен при содействии НФПК – Национального фонда подготовки кадров в рамках Программы «Совершенствование преподавания социально-экономических дисциплин в вузах» Инновационного проекта развития образования.
Влияние хозяйственных реформ в России и КНР на экономическую мысль Запада. Учебное пособие - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Необходимость глубоких реформ в КНР была вызвана прежде всего очевидным провалом предшествующих коммунистических экспериментов Мао Цзедуна – «народных коммун», «большого скачка», «культурной революции», которые поставили миллиардное население на грань голодного вымирания. В то же время соседние Южная Корея, Тайвань, Таиланд, Малайзия к концу 1970-х годов добились процветания, развиваясь по рыночно-капиталистическому пути.
Нищенский жизненный уровень основной массы населения и крайний недостаток ресурсов ограничивали выбор у нового руководства во главе с Дэн Сяопином и лишали его права на новые авантюрные эксперименты.
При выборе общего направления был учтен опыт нэпа и косыгинской реформы 1965–1968 гг. в СССР, венгерский и югославский опыт, а также латиноамериканский опыт (Мексика, Чили).
Из дальнейшего изложения будет видно, что по существу избранное направление реформы не противоречило общей ориентации Вашингтонского консенсуса, хотя по форме, по официальной идеологической риторике оно вначале представлялось как меры, направленные на укрепление госсоциализма. На практике же после двух десятилетий реформы, которая, по ряду оценок, продлится еще не менее трех десятилетий, становится все более полным отказ от госсоциализма хотя окончательная «модель» так и не определилась.
Что же касается путей, методов, темпов, то здесь китайское руководство избрало сугубо прагматический образ действий, отказавшись на практике от подражания чьему бы то ни было примеру и приверженности каким-либо «моделям» и установкам, кроме трех: немедленное повышение народного потребления, экономический рост, укрепление существующей государственной власти (эти три цели по-видимому, и имел в виду Дэн Сяопин под словом «мыши» когда разъяснял свой основной подход к выбору экономической политики: «не все равно ли какого цвета кошка, важно, чтобы она ловила мышей») В этом избранный образ действий вступал в острый конфликт со стандартной моделью рыночных преобразований навязываемой экспертами МВФ и Всемирного банка Этими экспертами указанные принципы как раз не принимаются во внимание.
В китайском подходе к реформам упор был сделан на выбор направления и на продуктивность самого процесса реформ, но не на конечную цель в виде некой определенной социально-экономической модели, ради построения которой следует терпеть и жертвовать. Подход же экспертов МВФ упор делает именно на конечную цель, достичь которую рекомендуется в кратчайший срок «любой ценой» (за каждым из подходов скрываются определенные философская и теоретико-экономическая позиции, на которых мы остановимся позже).
Международный опыт послевоенного развития как раз учит, что успехи достигнуты странами со смешанной, плюралистической экономикой, где активная государственная политика сочеталась с рынком и национальными традициями.
Для либеральных реформаторов еще с начала 1970-х годов хорошо была известна дорога в Чикагский университет, где их консультировал М. Фридмен и его коллеги-монетаристы. Однако экономисты КНР пошли другим путем. По свидетельству Лоуренса Клейна, первый контакт китайских ученых с группой экономистов из США произошел в 1979 г. Американская сторона представляла исследовательский совет в области социальных наук и Национальную академию наук. Л. Клейн, профессор Пенсильванского университета, получил Нобелевскую премию в 1976 г. за разработку экономической народно-хозяйственной прогнозной модели Уже в 1980 г в Китае начала работать экономическая школа и была развернута программа исследований по широкой проблематике В течение 1980-х годов в Китае было подготовлено новое поколение экономистов, с одной стороны усвоивших достижения современной теории, а с другой – владеющих методами экономического и общестатистического анализа и использующих их в исследовании хозяйственных процессов. Последнее предохранило их от ошибок, неизбежных при попытках непосредственного применения на практике абстрактных теоретических моделей, что характерно для сторонников «шоковой терапии».
В то время как среди экономистов в СССР и странах Восточной Европы при содействии чикагских монетаристов и их единомышленников из Гарварда, Лондона и Стокгольма (вроде Сакса, Лэйра и Ослунда) вынашивались идеи об отказе от всякого планирования, в Китае готовилась база для замены бюрократического директивного планирования научным экономическим планированием. Развивались банки данных, программное обеспечение моделирование и др.
Информационная база создавалась на эволюционной основе, формировались временные ряды, разрабатывались структурные обзоры и другие информационные системы, необходимые для упорядоченного планирования. Внедрение современного экономического мышления шло в тесной корреляции с развитием полезных информационных систем.
Суждения Л. Клейна о том, что научное экономическое мышление вырабатывается в тесной связи с эмпирическими исследованиями, созвучны идеям другого видного американского экономиста У. Баумоля, считающего необходимым требованием к современной экономической науке тесную «треугольную» связь между теорией, эмпирическими исследованиями и прикладными разработками.
Но возможен и другой «любовный треугольник»: идеология – экономическая теория – политика. Именно он возобладал в СССР и Восточной Европе, в силу чего и стали возможны «шоковые» реформы, не обеспеченные необходимой информационной базой.
В общем, можно заключить, что мышление и подготовка китайских экономистов, причастных к реформам, уже к концу 1980-х годов вполне соответствовали мировому уровню, а решения принимались китайским руководством во всеоружии мирового опыта.
То, что произошло в миллиардном Китае за четверть века после 1978 г., можно назвать Великой китайской экономической революцией, геополитические последствия которой, возможно, станут решающим фактором мирового развития начиная со второй половины XXI в., когда суммарные показатели экономики Китая превзойдут показатели экономики США.
Опыт этой революции долго будут изучать историки и теоретики (как мы до сих пор изучаем европейскую Промышленную революцию), однако уже теперь ясно, что подгонять этот опыт под имеющиеся стереотипы мышления бесполезно, – придется менять сами стереотипы.
Конечно, неразумно уподобляться тому древнегреческому философу, который, ссылаясь на изменчивость вещей, отказывался называть их, а лишь указывал пальцем. Тем не менее опыт Китая многое изменит в современном экономическом мышлении.
Во-первых, роспуск в 1978 г. коммун и последующий переход на семейный подряд (при повышении закупочных цен и снижении налогов) показали, каким мощным рыночным институтом способна явиться большая китайская полупатриархальная семья. Не «коллективизм», не «индивидуализм», а семейное начало, социально-экономическую природу которого еще в начале XX в. исследовал выдающийся российский ученый Н. Чаянов и которое не учитывается современной теорией.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: