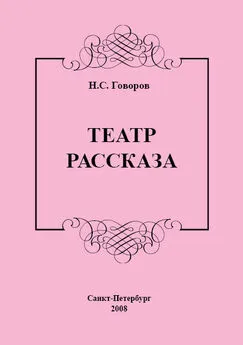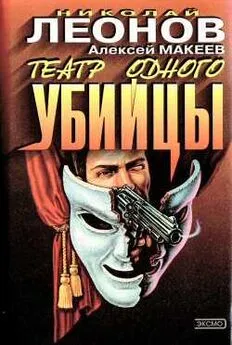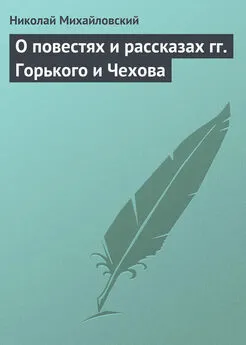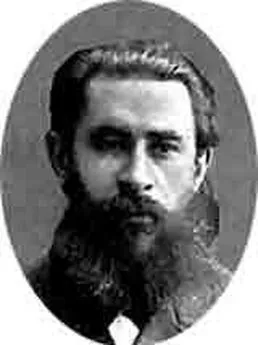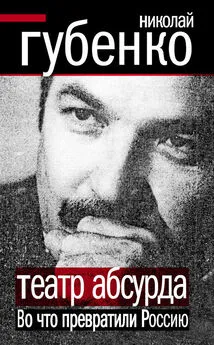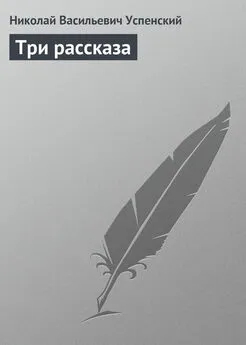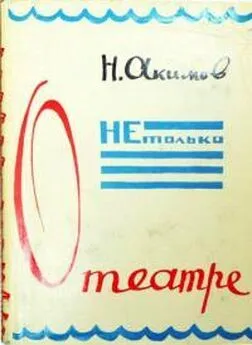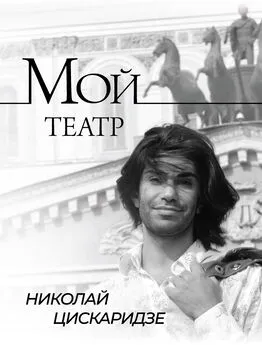Николай Говоров - Театр рассказа
- Название:Театр рассказа
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2008
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-94856-533-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Говоров - Театр рассказа краткое содержание
Театр рассказа - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Период слепого поиска
(Из своей чтецкой практики)
Отправным моментом исканий, приведших меня к жанру театра рассказа, была чтецкая практика, а вернее, поиск решения противоречий, с которыми я столкнулся, занимаясь чтецким искусством: в самом этом искусстве и в своей личной учебной и исполнительской работе.
Мне довелось заниматься у многих, противоположных по своим художественным позициям, педагогов, режиссеров и мастеров художественного слова.
В детстве во Дворце пионеров и после войны в Педагогическом институте имени Герцена я занимался у профессора В. В. Сладкопевцева, применявшего в своей педагогике ряд принципов импровизационных жанров Горбунова и Андреева-Бурлака.
В войну, в Москве, когда я работал чтецом в ансамбле Красноармейской песни и пляски, мне посчастливилось довольно долго заниматься у ученика К. С. Станиславского, режиссера театра им. Станиславского и Немировича-Данченко засл. арт. РСФСР П. И. Румянцева, автора монографии «Работа Станиславского над оперой “Риголетто”», который в кропотливой индивидуальной работе со мной стремился передать мне сущность метода физических действий в применении его к чтецкому искусству.
Еще до этого, т. е. за полгода до войны, а затем, когда я перешел из ансамбля на работу в Политуправление Западного фронта ПВО, от которого ездил по фронтам с литературными концертами и в качестве инструктора чтецкой самодеятельности, я занимался в ВТО в чтецкой группе, руководимой В. Н. Аксеновым.
Помимо Всеволода Николаевича я получал консультации В. И. Качалова и других ведущих мастеров художественного слова. Правда, занятия эти велись не систематически и представляли собой один из видов шефской помощи, оказываемой чтецкой секции ВТО армии.
В своих личных чтецких исканиях я прошел через многие жанры. Был увлечен монодраматическим жанром Андреева-Бурлака, с которым вначале познакомился по фотографиям его исполнения «Записок сумасшедшего» Гоголя, а затем и по исполнению этого монодраматического спектакля старейшим актером Малого театра В. Лебедевым, одним из последних представителей жанра Андреева-Бурлака.
Затем я увлекся яхонтовской идеей театра одного актера и перепробовал все формы этого жанра, через которые прошел Яхонтов, начиная от литмонтажа и кончая исполнением драматических произведений.
Но, пожалуй, самым сильным моим впечатлением в чтецком искусстве, вызвавшим самое большее стремление добиться того же, было то, которое я получил от знакомства с жанром А. Я. Закушняка.
Самого А. Я. Закушняка мне, конечно, услышать не довелось, но в 1939 году мне посчастливилось попасть на вечер, посвященный десятилетию со дня его смерти, на котором ведущий ленинградский мастер художественного слова B. C. Чернявский, точно копируя первую работу А. Я. Закушняка, исполнял «Дом с мезонином» А. П. Чехова, в тех же самых принципах, в которых А. Я. Закушняк начинал в 1910 году свой жанр вечеров интимного чтения.
Сила впечатляемости этого выступления была беспредельной, несмотря на то, что в нем не было никаких особых эффектов, за исключением того, что рассказ шел при освещении одной лишь настольной лампы, а исполнитель весь вечер просидел у столика в кресле, ни разу с него не встав.
Но здесь я впервые увидел, какой огромной силой эстетического воздействия может обладать поставленный в сценические условия совершенно естественный, правдивый рассказ. С этого времени началось мое преклонение перед памятью А. Я. Закушняка, поиск всего, что как-то могло дать более полное представление о его искусстве, внимательное изучение творчества его последователей – Журавлева, Каминки и других и попытки, к сожалению, чаще не удачные, следовать их принципам.
Неудачи, о которых я упомянул, объяснялись тем, что в то время мне еще трудно было понять сущность жанра рассказа, как и всего чтецкого искусства в целом. И хотя я уже был знаком со взглядами многих теоретиков чтецкого искусства – Озаровского, Сережникова, Всеволодского-Гернгросса, Артоболевского, Шервинского, Верховского и других и понимал отличительные черты различных жанров искусства живого слова, мне не понятна была причина этих различий. И никто из моих учителей, никто из ведущих мастеров этого искусства, с которыми я имел возможность общаться, не мог мне дать ответа на эти основные вопросы.
Все жанры искусства живого слова вызывали у меня огромный интерес. От каждого из учителей, с которым мне доводилось заниматься, от каждой лекции, от каждого диспута или творческого самоотчета, ведущего мастера этого искусства, систематически проводимых чтецкой секцией ВТО, я получал богатейший и очень ценный для себя материал. Но чем больше я занимался, тем все явственнее раскрывались мне глубокие противоречия, лежащие между различными жанрами и направлениями в искусстве живого слова. И чем убедительнее были доводы разных сторон, тем все большую растерянность я испытывал.
Да, конечно, существование различных жанров искусства живого слова, думал я, вполне закономерно. Безусловно, каждый из жанров имеет право на существование. Существуют, наконец, и индивидуальные различия мастеров этого искусства. Один стремится к одному, другой к другому. И если бы таких различий не существовало, наверное, было бы очень плохо. Но не могут же все направления, все школы, все взгляды быть одинаково истинны.
Когда я слушал концерты Журавлева, Яхонтова, Кочаряна, Балашова и других ведущих мастеров, я в каждом находил что-то свое интересное, неповторимое. Каждый меня увлекал. После каждого концерта хотелось тут же делать то же, что делают они.
Хотя сознательно, а чаще непроизвольно, я отдавал предпочтение одним перед другими. Но почему я отдавал предпочтение, мне было не очень ясно. Просто я сам себе говорил, вот этот мне нравится больше, а этот меньше. Да и само предпочтение было не очень-то прочно, так как главным в то время была общая любовь к искусству живого слова. И поэтому не очень-то обращалось внимание на разное качество увлеченности различными мастерами этого искусства.
А разница эта была. В выступлениях одних (Чернявского, Журавлева, Каминки, Шварца) большее впечатление производило содержание прочитанного и почти не улавливалось мастерство. В то время как в выступлениях других (Яхонтова, Артоболевского, Балашова, Аксенова, Царева) большее впечатление производило не содержание, а мастерство. И хотя сила впечатляемости от первых была больше, но почему-то на подражание тянули вторые.
Впоследствии стало понятным почему так происходило. Объясняется это тем, что в первом случае ты не замечаешь, как это сделано.Более того, когда я слушал Чернявского, демонстрировавшего искусство Закушняка, то создавалось впечатление, что он совершенно ничего не делает, что и вообще-то, полностью отсутствует какое-то мастерство. И если бы ни сила того, потрясающего по глубине, впечатления, то можно было бы сказать, что это вообще не искусство, а так, вышел человек на сцену, сел в кресло и говорит себе все, что ему вздумается. И все.Никакого «актерского мастерства», никаких «выразительных» интонаций, жестов,словом, всего того, что дает понять, что это не жизнь, а искусство, что это не просто говорящий человек, а актер, мастер.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: