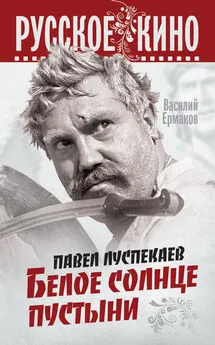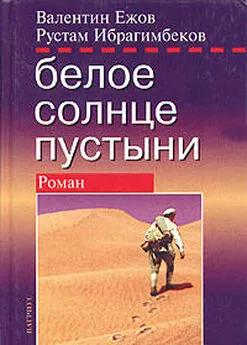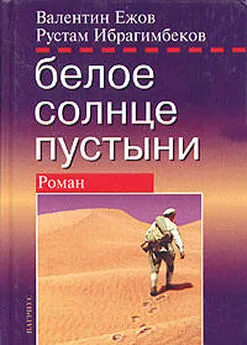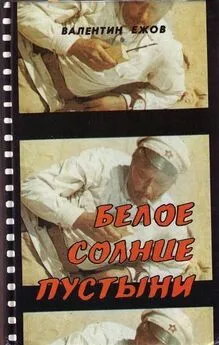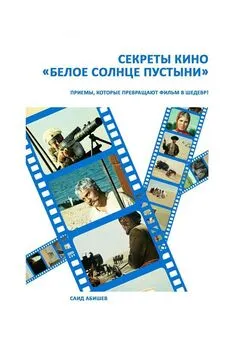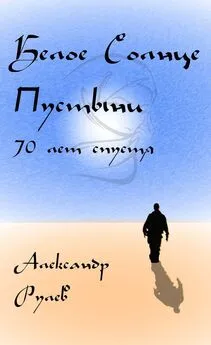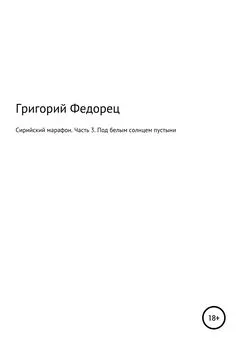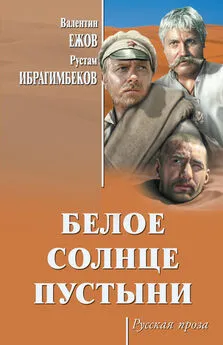Василий Ермаков - Павел Луспекаев. Белое солнце пустыни
- Название:Павел Луспекаев. Белое солнце пустыни
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Василий Ермаков - Павел Луспекаев. Белое солнце пустыни краткое содержание
Подростком он попал в партизанский отряд, участвовал в боевых операциях разведгруппы, был ранен. А в 44-м уже выходил на сцену Ворошиловградского драмтеатра… Биография Павла Луспекаева – сама по себе сюжет для целого романа. Собственно, кинорежиссер Василий Ермаков его и написал. Это не просто взгляд со стороны. Актер самобытного дарования и мощного темперамента предстает на страницах его книги земным человеком, которому ничто не чуждо, сильной, незаурядной личностью, способной на самопожертвование.
Артист прожил всего 43 года. Тяжелый недуг заставил расстаться с любимой сценой БДТ. Оставалось кино. После ампутации второй ступни он сыграл роль легендарного таможенника Верещагина в фильме В. Мотыля «Белое солнце пустыни», которая принесла ему настоящий триумф. И поверить в то, что в роли этого здоровяка-богатыря снимался смертельно больной актер, до сих пор просто невозможно.
Павел Луспекаев. Белое солнце пустыни - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Естественно, что, будучи одним из отцов-основателей этого плодотворного творческого направления, оказавшего мощное влияние не только на театр, литературу и живопись, но и вообще на широкое общественное сознание, Леван Шенгелия оставался и одним из самых последовательных и твердых его адептов. Так, собственно, он начал свой путь в кино, вырос, оперился, и изменять этим принципам не собирался ни под каким видом.
Второе направление, возникнув в результате борьбы с тем же противником, с которым сражалось первое, ревностно исповедовало зрелищный, образный, многоплановый, часто гротесковый кинематограф. Кино не жизнь, а искусство, обладающее своими – драматургическими, пластическими и прочими условностями, ему не подобает подделываться «под жизнь». Жизнь «замусорена» неисчислимым количеством подробностей и случайностей, которые вовсе не обязательно воспроизводить на экране. Кино должно жить своей особой, быть может, обособленной жизнью, иметь, как говорится, «лица не общее выраженье». При наличии всего этого фильм может оказаться «правдивее» самой жизни. Разве фильмы признанного гения кино всех времен и народов Чарлза Спенсера Чаплина не условны?.. Еще как: начиная с драматургических построений и кончая главным, кочующим из фильма в фильм, персонажем – бродяжкой Чарли с его суперусловными атрибутами опустившегося в годы Великой депрессии джентльмена средней руки: котелком, усами, заношенном костюмчиком-тройкой, тросточкой и нелепыми штиблетами, которые, как говорится, «просят каши». Но как же эти фильмы правдивы, как глубоко, широко и верно отразили многие особенности жизни американского общества первой половины XX века!..
Первым своим – дипломным фильмом «Жизнь», снятом на учебной киностудии ВГИКа, Геннадий Полока недвусмысленно обозначил себя приверженцем этого направления. Не вдаваясь в подробности, скажу о главном: фильм имел четко обозначенный стиль, соотношение меры условности поднятой темы и подлинности ее воплощения.
Небольшая эта лента была, кстати, хорошо принята (автор тому непосредственный свидетель, ибо учился в то время во ВГИКе) студентами киноинститута – самой принципиальной, самой чуткой к правде и непримиримой ко лжи и фальши, но и самой доброжелательной, если фильм того заслуживает, аудиторией. Можно быть уверенным, что фильм, принятый этой аудиторией, действительно получился, что бы потом ни говорили коллеги-постановщики или что бы ни изрекало высокое кинематографическое начальство.
Оба направления, о которых идет речь, мирно сосуществовали на экранах страны, удачно дополняя друг друга. Совсем иная складывалась ситуация, когда представители этих направлений оказывались на одной съемочной площадке да еще в качестве сопостановщиков. А в нашем случае ситуация предельно обострялась к тому же и столкновением двух менталитетов: величественного (не зря же говорится в известном анекдоте, что «один грузин – вождь»!), амбициозного, но обидчивого грузинского и настойчивого, но часто мнительного без особенного на то основания славянского. Если на стадии работы над режиссерским сценарием и подбора актеров – «кастинга» конфликтов можно было избежать (непременно щегольнет словечком, бестрепетно заимствованным из чужого лексикона нынешний ассистент режиссера, давая тем самым понять, как глубоко и всесторонне постиг он сокровенные тайны современного кинематографа), то на съемочной площадке они стали неизбежными.
Так оно, естественно, и случилось. Жаркие, порой яростные баталии начались в первые же съемочные дни и вспыхивали по любому поводу. Не было ни одного эпизода, который Леван Шенгелия не хотел бы решить по-своему, а Полока – по-своему.
Первыми двоевластие на съемочной площадке почувствовали на себе актеры. Каждую фразу, произнесенную ими, режиссеры слышали по-разному, и каждый, разумеется, настаивал на своем. Но если многоопытные, видавшие виды киношные «волки» Николай Афанасьевич Крючков (игравший начальника милиции) и Леонид Харитонов (инспектор рыбнадзора) спокойно отнеслись к сложившемуся положению, сразу же заняв нейтральную позицию, то неискушенному в интригах, непременных при съемках любого фильма, Павлу Луспекаеву пришлось туго. И в первую очередь потому, что он всем сердцем, всем разумением своим был на стороне Полоки. Ему тоже претило унылое жизнеподобие, обрыдла натуралистичность. Он не мог взять в толк, почему игровое художественное кино должно выглядеть как документальное, прикидываться им, заклинать как бы зрителей, будто все, происходящее на экране, – чистая правда. Его взрывному темпераменту было тесно в рамках тех задач, которые ставил перед ним Леван Шенгелия. И, наоборот, свободно на том пути, на который направлял его Полока.
Сложность его положения усугублялась тем, что волею драматурга и режиссеров он оказался в перечисленной славной троице ведущим. Он задавал тон в складывавшемся исполнительском ансамбле. От того, как сыграет он, во многом зависело, как сыграют Крючков и Харитонов. Его же игрой определялось поведение мальчишек-исполнителей. Сыграет он не в полный темперамент (но жизнеподобно, что удовлетворит Шенгелия), и его партнеры по эпизоду будут вынуждены сыграть так же.
Сыграть правдоподобно было несложно. Но – неинтересно. И как назло так считал и второй постановщик. Моментально загораясь от легчайшего творческого импульса, он обрушивал на актеров множество соблазнительных предложений, устоять перед коими не то чтобы было невозможно, но просто-напросто не хотелось. Начиналась цепная реакция: к предложению Геннадия Ивановича Луспекаев добавлял свое, тот, подхватывая, выдвигал следующее… – конца, казалось, не будет их необузданным импровизациям.
Крючков и Харитонов, очень быстро буквально влюбившиеся в Луспекаева и безоговорочно признавшие его лидерство в данном фильме, помалкивали, млея от удовольствия, а Леван Александрович досадовал, опасаясь, как бы эти двое окончательно не заблудились в дебрях своих фантазий. Да и зачем на первом фильме выкладываться так, будто он последний? Получится просто хороший фильм – этого достаточно, чтобы дорога в профессию оказалась открытой. Кроме того, кинопроизводство вещь жесткая – оно требует выдать двадцать пять полезных метров из отснятого за день материала и ни сантиметром меньше. Больше – можно. Меньше нельзя.
Бесконечные споры сопостановщиков изматывали неопытного Луспекаева, порождая – и не без обоснования! – серьезные сомнения в успехе дела, на которое положено столько сил, физических и душевных. К тому же донимали боли в ступнях, усиливавшиеся с каждым днем. Но пока съемки велись в нормальных бытовых условиях, можно было терпеть. Вечерами Павел парил ступни в горячей воде, смазывая затем гнусные раны зеленкой или йодом. Никто в съемочной группе не догадывался о его мучениях. До поры…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: