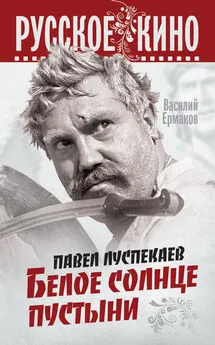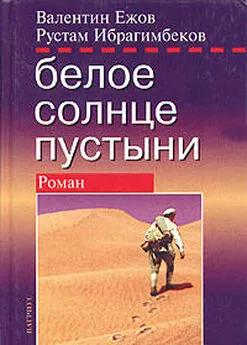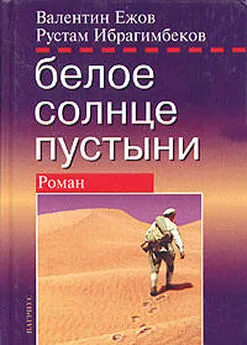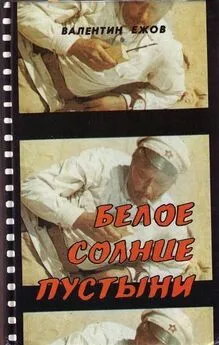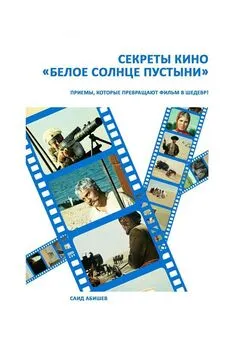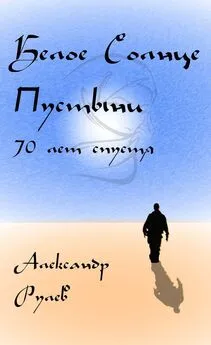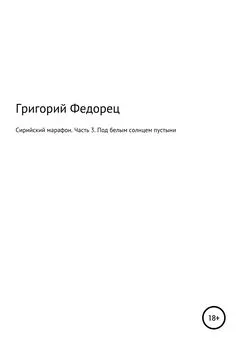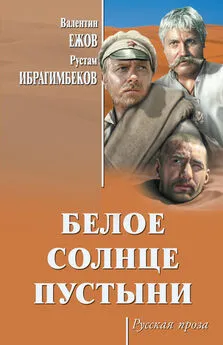Василий Ермаков - Павел Луспекаев. Белое солнце пустыни
- Название:Павел Луспекаев. Белое солнце пустыни
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Василий Ермаков - Павел Луспекаев. Белое солнце пустыни краткое содержание
Подростком он попал в партизанский отряд, участвовал в боевых операциях разведгруппы, был ранен. А в 44-м уже выходил на сцену Ворошиловградского драмтеатра… Биография Павла Луспекаева – сама по себе сюжет для целого романа. Собственно, кинорежиссер Василий Ермаков его и написал. Это не просто взгляд со стороны. Актер самобытного дарования и мощного темперамента предстает на страницах его книги земным человеком, которому ничто не чуждо, сильной, незаурядной личностью, способной на самопожертвование.
Артист прожил всего 43 года. Тяжелый недуг заставил расстаться с любимой сценой БДТ. Оставалось кино. После ампутации второй ступни он сыграл роль легендарного таможенника Верещагина в фильме В. Мотыля «Белое солнце пустыни», которая принесла ему настоящий триумф. И поверить в то, что в роли этого здоровяка-богатыря снимался смертельно больной актер, до сих пор просто невозможно.
Павел Луспекаев. Белое солнце пустыни - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
А Павел Борисович в том же 1950 году помимо «Калиновой рощи» занят еще в одном спектакле, да каком! В «Живом трупе» по пьесе самого Льва Николаевича Толстого он играет адвоката Петрушина. И опять – полный успех.
Следующий, 1951 год, и вообще, как говорится «забит под завязку» премьерами: Павел исполняет центральные роли в спектаклях «Битва за жизнь» М. Волина и Е. Шатрова, «Бесприданница» и «Волки и овцы» Островского, «С любовью не шутят» Кальдерона.
Спектакль «Битва за жизнь» зрительского успеха не имел и игрался перед почти пустым залом. Причина неуспеха предопределялась пьесой – безумно «правильной» в идеологическом отношении и совершенно беспомощной по художественным достоинствам. Точнее: полным отсутствием оных. Неудача усугублялась режиссурой – монотонной, неизобретательной. Вины Павла Луспекаева в провале спектакля не было – роль Жоржа, бесстрашного борца за мир, сыграна им была вполне прилично.
После премьеры этого спектакля Павел впервые в жизни испытал раздвоение… нет, не личности, а восприятия действительности. Виновата была пресса. Павел ожидал полного разноса, а газеты превозносили спектакль. Причем дружно хвалили именно те эпизоды, за которые было особенно стыдно.
«Так, а за что же его хаять? – хитровато прищурившись, отрезал все тот же Мавр Пясецкий, к которому Павел сунулся со своими недоумениями. – Там же что ни слово, то пра… – он придержал вторую половину слова, – …вильно. А за то, что правильно, не ругают, молодой человек, а хвалят. По головке гладят».
С этого дня играть в спектакле «Битва за жизнь» стало тягостной повинностью.
Неудовлетворенность ролью Жоржа Павел с лихвой восполнял исполнением ролей Вожеватова в «Бесприданнице», Москателя в спектакле «С любовью не шутят» и Горецкого в пьесе «Волки и овцы». Тут было все для заслуженного успеха: и убедительная драматургия, властно обязывающая режиссера искать верные сценические решения, и ярко и правдиво выписанные образы… Классика – как своя, русская, так и «забугорная», итальянская, – не подвела. Предоставляя постановщикам и актерам богатейший материал, она провоцировала на фантазию, выдумку, импровизацию и на репетициях, и на спектаклях.
Странно, размышлял Павел, во всем этом нуждался в первую очередь спектакль «Битва за жизнь». Но стоило явиться на его репетиции, фантазия словно заключалась в клетку, из которой не выпорхнуть, не воспарить. И совершенно наоборот – на репетициях «Бесприданницы», спектаклей «Волки и овцы» или «С любовью не шутят» – словно открываются какие-то клапаны, срабатывает какой-то «чертик», распахиваются неведомые просторы…
Немало довелось Павлу пошляться по кривым и крутым улочкам старого Тбилиси, прежде чем он понял: дело в том, что правильность, о которой говорил Пясецкий, и является клеткой. Сфантазируй, отступи чуть-чуть… и от пьесы-то, собственно, ничего не останется, даже пшика. Хрупкий механизм эта правильность.
Как только Павел осознал это, спектакль сделался для него ненавистным. Его трясло от негодования, которое вызывало в нем это, с позволения сказать, «произведение», его пустота, напыщенность и фальшь. Стыдно было и за себя, и за своих партнеров, и вообще за театр. Павел мечтал, чтобы спектакль поскорей сняли с репертуара ввиду явного неуспеха у публики, но его упорно держали на сцене. Более того, поговаривали, что выдвинут на Сталинскую премию и наверняка получит ее.
– А как будет выглядеть «лицо» репертуара, изыми из него этот спектакль? – вопросом на вопрос объяснял сей парадокс Мавр Пясецкий, к которому Павел обратился со своим мучительным недоумением. – Что останется на афише?
Павел представил. «Лицо» репертуара действительно выглядело непривычно: бесприданница как бы увещевала волков и овец с любовью не шутить.
– Так-то, молодой человек, – улыбнулся Мавр.
Вообще-то мысленно представленное «лицо» репертуара нравилось Павлу больше, чем то, которое было на самом деле. В реальности получалось так, будто то, что хорошо, держали на сцене как бы из милости: мол, надо же что-то держать. Тем же, что плохо, – украшали сцену.
Павел хотел поделиться с Пясецким и этим недоумением, но тот уже уходил от него по нарядному, всегда многолюдному Головинскому проспекту. На Пясецкого обращали внимание прохожие. В столице Грузии он пользовался немалой и благосклонной известностью. После полугода работы в театре и на Павла обращали внимание, особенно женщины, но он относил это на счет своего громадного роста и внешности. Город понравился ему с первого дня проживания. Все было по-южному ярко, пестро, шумно и весело. Воздействие войны ощущалось здесь даже меньше, чем в Москве. Можно сказать, что и вовсе не ощущалось.Поместили молодых актеров в небольшом общежитии при театре. Наконец-то у Павла и Инны появилась своя комната. Из нее они длинными запутанными переходами внутри театра попадали в свою гримерную и после спектакля возвращались обратно. По ночам они прислушивались к разнообразным звукам, доносившимся из глубин огромного здания: где-то свистело, вздыхало и хлопало. Свистело, наверно, от сквозняков. Они же заставляли «вздыхать» задники и занавес сцены. А хлопал, вернее, топал, ночной сторож, обожавший побродить по пустым помещениям.
В первое утро Инна и Павел проснулись от истошного вопля:
– Мацони-и! Мацони-и!
Вопль звучал так, будто человека, исторгавшего его, обложили голодные волки, и если какой-то Мацони не поспешит на помощь, непременно разорвут и сожрут его.
Павел и Инна метнулись к окну и выглянули во двор. Посреди двора стоял ишачок, обвешанный сумами, из которых торчали горлышки кувшинов, а возле ишачка топтался мужчина с черпачком в руке. Он-то и производил трагические вопли. Вскоре к мужчине и ишачку потянулись жители ближайших домов с бидончиками и крынками. Мужчина оказался, как выяснилось позже, торговцем кислой кавказской простокваши, мацони по-грузински…
Неожиданно Павел передразнил мацонщика, усилив трагическое звучание его голоса. Инна рассмеялась и крикнула: «Дебют состоялся!»Через пару дней они и неразлучный с ними Коля Троянов отправились в Пантеон великих граждан Грузии посетить в первую очередь могилу того человека, именем которого был назван театр, в котором молодым актерам предстояло служить. Сперва по узкой улочке, вымощенной булыжником, а потом по тропинке, вырубленной в гранитном склоне горы Мтацминда, они добрались до церквушки отца Давида. Справа от нее, на гранитной естественной площадке, расположился Пантеон.
Могила Александра Сергеевича Грибоедова находилась в нише, вырубленной в скале. Над могилой был вознесен крест с мраморной фигурой молодой женщины, горестно опустившейся на колени. Это, конечно, была юная вдова Нина Чавчавадзе. Коля, зашедший с торца, торжественно прочел: «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской. Но для чего пережила тебя любовь моя!..»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: