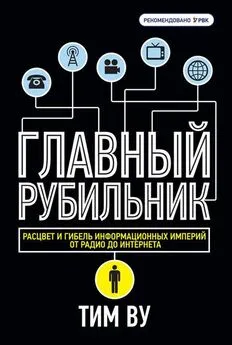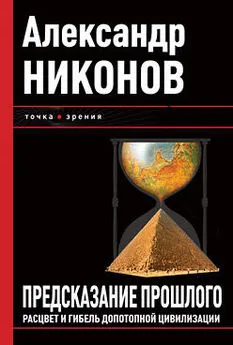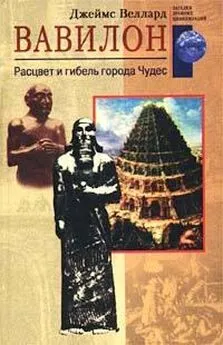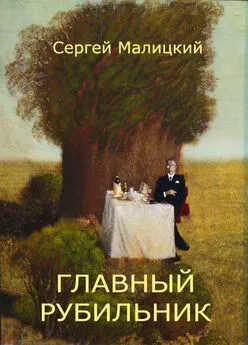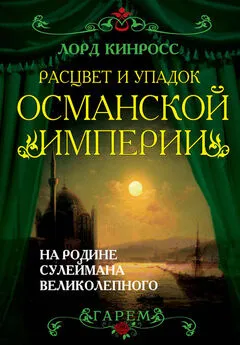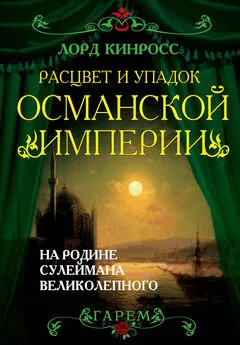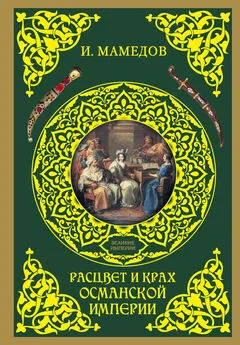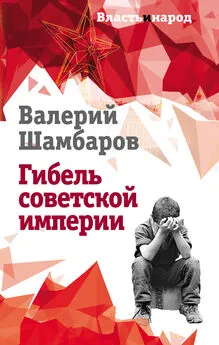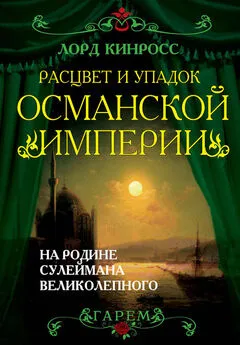Тим Ву - Главный рубильник. Расцвет и гибель информационных империй от радио до интернета
- Название:Главный рубильник. Расцвет и гибель информационных империй от радио до интернета
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Манн, Иванов и Фербер
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91657-532-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Тим Ву - Главный рубильник. Расцвет и гибель информационных империй от радио до интернета краткое содержание
Пролить свет на прошлое, чтобы предвидеть будущее — главная задача этой книги.
Эта книга для тех, кто считает интернет не просто средством общения, но и инструментом познания мира, способом самовыражения. Для думающих и неравнодушных интернет-пользователей. Для студентов и преподавателей, особенно — экономических, телекоммуникационных и гуманитарных специальностей.
Главный рубильник. Расцвет и гибель информационных империй от радио до интернета - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Это утверждение часто повторяют, но не лишним будет вспомнить его еще раз: суть информационных отраслей или организаций, которые имеют дело с разными формами индивидуального творчества и самовыражения, просто невозможно понять правильно, если воспринимать их как обычные, «нормальные» индустрии, т. е. такие, которые построены на любых других типах ресурсов [112]. В 1945 г. судья Феликс Франкфуртер, имея в виду газеты, написал: «Правда и понимание — это не товары, как орехи или картошка. И поэтому воздействие ограничений на распространение правды вызывает последствия, совершенно отличные от сопоставимых ограничений в бизнес-организациях с чисто коммерческим контекстом». В связи с этим проблема закоснелого мышления, касающаяся любой части общества, становится гораздо серьезнее, если мы говорим об индустрии, фундаментальной для демократии. Для людей свобода слова — в широком конституционном смысле выходящая за пределы простой вербальной коммуникации — необходима для выполнения задач, которые находятся за рамками простых хозяйственно-договорных отношений. Чтобы самовыражаться и воспринимать чужое самовыражение, необходим духовный аспект — он объясняет, почему телевизор нельзя описать просто как тостер, который не поджаривает хлеб, а показывает картинки и издает звуки. Будь это песня, фильм, политическое выступление или личный разговор — все формы коммуникации обладают способностью менять наши взгляды, наши жизни. Каждому из нас доводилось читать или смотреть что-нибудь, что оставило неизгладимое впечатление, которое невозможно измерить в плане затрат на производство и распространение. Именно поэтому Йозеф Геббельс описал радио как «духовное оружие тоталитарного государства». По этой же причине нацистский режим в 1940-х гг. занимался развитием новых форм медиа с таким же рвением, что и новых видов оружия. И в самом деле, за каждой тиранией или геноцидом стоит тайный сговор с каким-нибудь каналом информации. Такие вещи невозможно сказать про апельсиновый сок, кроссовки и десятки других отраслей, независимо от их размера.
Сегодня информационные индустрии все вместе вплетены в наше существование в масштабе, беспрецедентном за всю промышленную историю, включая каждое направление наших национальных и личных жизней — экономику, да, но также и творческие, культурные, социальные и политические стороны. Каналы информации не просто встроены в любой процесс — с их помощью определяется, кто из нас и когда будет услышан и увиден, будь это вдохновенный изобретатель, художник или политический кандидат. И здесь возникает вызов, потому что американская система привыкла к четкому разделению политической и экономической власти. Перед системой, которая настаивает на строгом контроле политики и весьма умеренном контроле экономики, встает дилемма. Один из главнейших вопросов нашего времени состоит в том, следует ли этот подход к власти информации строить исходя из осознания таких политических последствий — подчиняясь нашей устоявшейся привычке искать баланс и проверять любую великую силу. Альтернатива, набирающая силу с 1980-х гг., заключается в том, чтобы относиться к информационным рынкам так же, как и к любым другим, на которых мы терпим и даже вознаграждаем разрастание.
Эти, пусть и не очевидные с первого взгляда, но глубочайшие вопросы, на самом деле находятся в сердце продолжающейся борьбы за будущее интернета. Подойти к данной проблеме со свежим взглядом в XXI в. — значит столкнуться с объективной реальностью: информация есть исключительная индустриальная категория даже в отношении своей собственной истории. Единственная всемирная сеть несет в себе всё: голосовую связь, видео, новости, культуру и торговлю. Поэтому странно, что, по мере того как ставки растут, здравый смысл все больше склоняется в сторону чисто экономического, а не политического подхода. Сегодня совершенно не то время, чтобы думать, будто общественное и политическое измерения информационной экономики каким-то образом нивелировались.
Очень важно осознать (возможно, даже осознать заново) всю значимость Принципа разграничения в информационной экономике. Под Принципом разграничения я подразумеваю идею поддержания спасительной дистанции между различными функциями. Это означает, например, разделение основных функций ради защиты молодых отраслей от влиятельных лиц, при сохранении определенного расстояния между правительством и индустрией. Так осуществляется разделение между законодательной, судебной и исполнительной властью или разделение церкви и государства: в основе лежит требование свободного пространства между ними, в противном случае объединение превратилось бы в слишком концентрированную централизованную власть. Принцип разграничения — это применение базового политического принципа к информационным отраслям.
Первую форму разграничения можно назвать антимонопольной — ее также можно рассматривать как меру, защищающую молодые отрасли от старых хищных монополистов. Большая часть этой книги является хроникой изучения этой проблемы под названием эффект Кроноса. В худшем случае хищники могут убить нарождающуюся отрасль либо — что менее трагично, но так же существенно — лишить ее критически важного периода открытых исследований и культурных экспериментов, которые имеют колоссальное значение.
Иногда закон помогал новичкам, как в том случае, когда сильный патент защитил неокрепшую компанию Bell от атаки Western Union. В 1990-х гг. антимонопольный комитет многое сделал, чтобы спасти развивающийся интернет от покушений Microsoft тем, что не дал компании использовать свою монополию, нелегально полученную в отношении браузера. Но чаще государство принимало другую сторону: оно помогало существующему бизнесу поглощать или побеждать новые направления, самый яркий пример здесь — ранний период развития телевидения и FM-радио.
Принцип временного разграничения подчеркивает важность правил, гарантирующих, что часть информационной инфраструктуры остается открытой для появления новых игроков. Эти меры необходимы, поскольку оставляют возможность новичкам бросить вызов старшему поколению. У предпринимателей должна быть возможность набирать силу, с тем чтобы однажды бросить вызов сегодняшним гигантам.
Второй тип разграничений относится к рынкам, функциям и платформам: наверное, его легче объяснить, если обозначить зло, против которого он направлен. Это не просто монополия, почти неизбежная на некоторых рынках, но создание иного рода. Его можно назвать «супермонополией»: единственная компания захватывает контроль над полностью интегрированной информационной монополией, охватывающей многочисленные рынки. Подобные компании обычно распространяют свою власть на два или более смежных информационных рынка, достигая двойной или даже тройной вертикально интегрированной монополии. Это и есть фатальная угроза, которую можно отвести с помощью Принципа разграничения. А поскольку такую монополию сложнее всего победить, она склонна держаться гораздо дольше, чем это может быть оправдано любыми соображениями эффективности, — держаться ценой инноваций, свободы слова, а порой и демократического процесса.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: