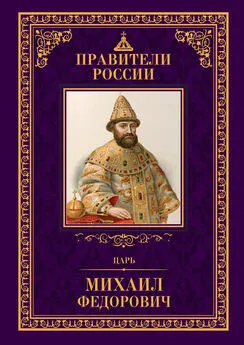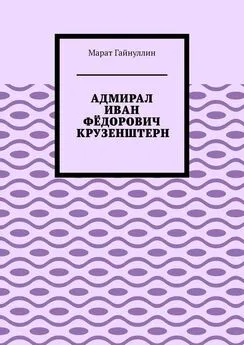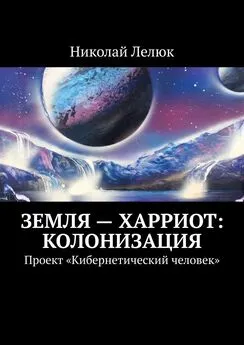Турчин Фёдорович - Феномен науки. Кибернетический подход к эволюции
- Название:Феномен науки. Кибернетический подход к эволюции
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЭТС
- Год:2000
- Город:Москва
- ISBN:5-93386-019-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Турчин Фёдорович - Феномен науки. Кибернетический подход к эволюции краткое содержание
Автор книги — выдающийся ученый, физик и кибернетик, создатель языка Рефал и нового направления в программировании, связанного с преобразованием программ. Известен широкому кругу отечественных читателей как составитель сборника “Физики шутят”. Вынужденный покинуть Родину, с 1977 года он живет и работает в США.
В этой книге В. Ф. Турчин излагает свою концепцию метасистемного перехода и с ее позиций прослеживает эволюцию мира от простейших одноклеточных организмов до возникновения мышления, развития науки и культуры. По вкладу в науку и философию монография стоит в одном ряду с такими известными трудами как “Кибернетика” Н. Винера и “Феномен человека” П. Тейяра де Шардена.
Книга написана ярким образным языком, доступна читателю с любым уровнем подготовки. Представляет особый интерес для интересующихся фундаментальными вопросами естествознания.
Замечания по электронной версии книги присылайте, пожалуйста, членам редакционного совета. Спасибо!
Редакционный совет: А. В. Климов, А. М. Чеповский, В. С. Штаркман
Феномен науки. Кибернетический подход к эволюции - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Иначе обстоит дело в первобытном обществе. Здесь общественной нормой мышления является отношение к словам, представлениям и регламентациям своей культуры, как к чему-то безусловно данному, абсолютному, не отделимому от других элементов реальности, ибо связь между языком и действительностью еще не стала объектом мысли. Это очень существенное отличие от современного образа мышления. Мы рассмотрим первобытное мышление более детально и покажем, что из этой особенности — докритичности — вытекают его основные наблюдаемые черты.
Ниже в этой главе мы пользуемся данными, взятыми из книги Л. Леви-Брюля 1 . Эта книга интересна тем, что в ней собран большой материал о первобытных культурах, убедительно показывающий отличие первобытного мышления от современного. Что касается концепции Леви-Брюля, то как ее положительную черту следует отметить, что мышление отдельных членов первобытного (в действительности, конечно, не только первобытного, но этого Леви-Брюль почему-то не замечает) общества описывается им как регулируемое коллективными представлениями данной культуры. Заслугой Леви-Брюля является также указание на то, что коллективные представления в первобытном обществе отличаются от наших, поэтому объяснение мышления первобытного человека путем подстановки (часто неосознанной) на его место современного человека совершенно неправомерно. В остальном концепция Леви-Брюля довольно бессодержательна. Он описывает первобытное мышление как «пралогическое», «мистически ориентированное» и «управляемое законом партиципации (сопричастия)». Эти понятия остаются весьма туманными и ничего не прибавляют к собранному материалу. Сочувствие вызывает только сам термин «пралогическое мышление», перекликающийся с нашим определением первобытного мышления как докритического.
8.4. Магия слов
На стадии первобытного мышления ассоциация имя-значение L i - R i уже существует, ибо язык прочно вошел в жизнь, но она еще не стала объектом внимания, ибо метасистемный переход на второй уровень языковой деятельности пока не произошел. Поэтому ассоциация L i - R i воспринимается в точности так же, как любая ассоциация R i - R j между элементами действительности, например ассоциация молния-гром. Для первобытного мышления связь между объектом и его именем — абсолютная, физическая, так сказать, реальность, усомниться в которой просто невозможно. Фактически — и это вытекает из фундаментального свойства ассоциации — первобытный человек мыслит себе единый объект L i - R i , у которого имя L i и материальный облик R i , суть различные части или стороны. О таком отношении к именам среди первобытных народов свидетельствует множество исследователей.
Индеец рассматривает свое имя не как простой ярлык, но как отдельную часть своей личности, как нечто вроде своих глаз или зубов. Он верит, что от злонамеренного употребления его имени он так же верно будет страдать, как от раны, нанесенной какой-нибудь части его тела. Это верование встречается у разных племен от Атлантического до Тихого океана (Дж. Муни).
Потому у многих народов распространен обычай пользоваться в быту не «настоящим» именем человека, а его прозвищем, которое рассматривается как нечто случайное и произвольное. Исследователь народов Западной Африки А. Б. Эллис утверждает, что среди них
существуют верования в реальную и физическую связь между человеком и его именем: можно ранить человека, пользуясь его именем... Настоящее имя царя является тайным... Может показаться странным, что только имя, дающееся при рождении, а не повседневное имя, считается способным переносить в другое место часть личности... Дело в том, однако, что туземцы, по-видимому, думают, будто повседневное имя не принадлежит реально человеку.
Это разделение имен на «настоящие» и «ненастоящие» является, очевидно, первым шагом на пути к метасистемному переходу.
Отношение между предметом и его изображением воспринимается точно так же, как между предметом и его именем. Вообще никакого существенного различия между изображением и именем первобытное мышление не проводит. Это и неудивительно, ибо изображение связано с оригиналом такой же ассоциацией, как и имя. Изображение — это имя, имя — изображение. Все изображения и имена предмета образуют вместе с самим предметом нечто целое, единое (а именно представление, созданное ассоциацией). Поэтому кажется очевидным, что действуя на часть, мы тем самым действуем и на целое, а значит, и на другие его части. Изображая бизона, пронзенного стрелой, человек верит, что он тем самым способствует успешной охоте на реального бизона. Художник и ученый Дж. Кетлин, живший среди манданов (Северная Америка), рассказывает, что манданы верили, что рисунки (и, в частности, портреты), сделанные им, заимствовали у своих оригиналов какую-то часть жизненного начала. «Я знаю, — говорил один из манданов, — что этот человек уложил в свою книгу много наших бизонов, я знаю это, ибо я был при том, когда он это делал, с тех пор у нас нет больше бизонов для питания». Очевидно, этот индеец понимал, что белый человек не укладывал бизонов в книгу в буквальном смысле, в их, так сказать, материальном виде, но ему было очевидно, что в некотором смысле, а именно по отношению к комплексам «реальный бизон — рисунок бизона», белый человек все-таки уложил бизонов в книгу, поэтому их стало меньше. Слово «уложил» используется при этом в несколько метафорическом смысле, если основной смысл относить к действию над «материальным» бизоном, но это не влияет на верность мысли. Множество терминов во всех языках мира используются метафорически, без этого было бы невозможно развитие языка. Когда мы говорим «эти мысли хорошо уложились у меня в голове», то это не значит, что они уложились точно так, как укладываются в чемодане вещи.
8.5. Духи и прочее
Теперь перейдем к «духам», которые играют такую важную роль в первобытном мышлении. Мы увидим, что появление «духов» — неизбежное следствие возникновения языка и что они исчезают (но зато с той же неизбежностью, с которой возникли) только с метасистемным переходом на уровень критического мышления.
Вдумаемся снова в ту ситуацию, когда язык уже существует, но его отношение к действительности еще не стало предметом изучения. Благодаря языку происходит нечто вроде удвоения предметов: вместо предмета R i человек имеет дело с комплексом R iL i , где L i — имя R i . В этом комплексе языковый объект L i представляет более доступную и в этом смысле более стабильную компоненту. Произнести слово «солнце» можно независимо от того, видно ли в данный момент солнце или нет. Имя человека можно повторять сколько угодно раз, в то время как сам человек мог давно умереть. Но каждый раз его облик будет всплывать в воображении говорящего. В результате соотношение между именем и значением как бы переворачивается: объект L i приобретает признаки чего-то первичного, а объект R i — вторичного. Нормальное отношение восстанавливается только после метасистемного перехода, когда L i наравне с R i , а особенно связь между ними становятся объектом внимания. Пока же этого не произошло, слово L i играет ведущую роль в комплексе R iL i , а услужливое воображение готово связать любые картины с каждым словом, употребляемым в общественной языковой практике. Одни слова языка первобытной культуры обозначают с нашей современной точки зрения реально существующие предметы, другие же обозначают с нашей точки зрения нечто реально не существующее (духи и т. п.). Но с точки зрения первобытного человека между ними нет никакой разницы, разве что чисто количественная. Обычные предметы могут быть видимы, или невидимы (когда они спрятаны или когда темно), или же видимы одними и невидимы другими. То же относится к духам, только увидеть их труднее. Их или никто не видит, или видят только колдуны. В Северной Америке у кламатов знахарь, позванный к больному, должен был совещаться с духами определенных животных. Только тот, кто прошел пятилетний курс подготовки к знахарству, может видеть этих духов, но видит он духов так же ясно, как предметы вокруг себя. Тарагумары верили, что в реках живут большие змеи, имеющие рога и огромные глаза. Но видеть их способны только шаманы. Среди бурят было распространено мнение, что когда ребенок опасно болеет, причиной этого является маленький зверек «анокха», который поедает макушку ребенка. Анокха похож на крота или кошку, но видеть его могут только шаманы. У гуичолов есть ритуальный обряд, выполняя который они кладут головы оленьих самок рядом с головами самцов, причем считается, что у самок, как и у самцов, есть рога, хотя никто, кроме шаманов, их не видит.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: