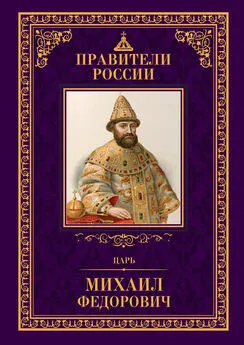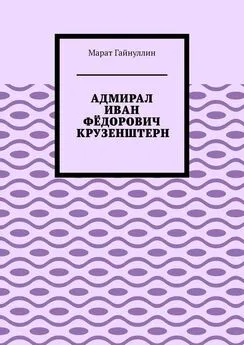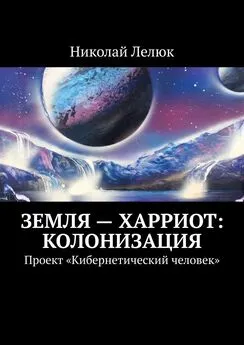Турчин Фёдорович - Феномен науки. Кибернетический подход к эволюции
- Название:Феномен науки. Кибернетический подход к эволюции
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЭТС
- Год:2000
- Город:Москва
- ISBN:5-93386-019-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Турчин Фёдорович - Феномен науки. Кибернетический подход к эволюции краткое содержание
Автор книги — выдающийся ученый, физик и кибернетик, создатель языка Рефал и нового направления в программировании, связанного с преобразованием программ. Известен широкому кругу отечественных читателей как составитель сборника “Физики шутят”. Вынужденный покинуть Родину, с 1977 года он живет и работает в США.
В этой книге В. Ф. Турчин излагает свою концепцию метасистемного перехода и с ее позиций прослеживает эволюцию мира от простейших одноклеточных организмов до возникновения мышления, развития науки и культуры. По вкладу в науку и философию монография стоит в одном ряду с такими известными трудами как “Кибернетика” Н. Винера и “Феномен человека” П. Тейяра де Шардена.
Книга написана ярким образным языком, доступна читателю с любым уровнем подготовки. Представляет особый интерес для интересующихся фундаментальными вопросами естествознания.
Замечания по электронной версии книги присылайте, пожалуйста, членам редакционного совета. Спасибо!
Редакционный совет: А. В. Климов, А. М. Чеповский, В. С. Штаркман
Феномен науки. Кибернетический подход к эволюции - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Эта концепция получила название лапласовского детерминизма . Она является законным и неизбежным следствием механистической концепции мира. Правда, с современной точки зрения формулировка Лапласа нуждается в некотором уточнении, так как мы не можем признать законными понятия всеведущего разума и абсолютной точности измерения. Но ее легко модернизировать, практически не меняя смысла. Мы говорим, что если известны с достаточной точностью координаты и импульсы всех частиц в достаточно большом объеме пространства, то можно рассчитать поведение любой системы в любом заданном интервале времени с любой заданной точностью. Из этой формулировки, как и из первоначальной формулировки Лапласа, можно сделать вывод, что все будущие состояния Вселенной предопределены. Неограниченно повышая точность и охват измерений, мы неограниченно удлиняем сроки предсказаний. Так как никаких принципиальных ограничений на точность и охват измерений, т. е. таких ограничений, которые вытекали бы не из ограниченности человеческих возможностей, а из природы объектов измерения, не существует, мы можем представить себе предельный случай и заявить, что на самом деле все будущее мира определено уже сейчас и абсолютно однозначно. Здесь выражение «на самом деле» приобретает вполне отчетливый смысл; наша интуиция легко признает законность этого «на самом деле» и сопротивляется его дискредитации.
Итак, механистическая концепция мира приводит к представлению о полной детерминированности явлений. Но это противоречит субъективному ощущению свободы выбора, которым мы обладаем. Отсюда два выхода: признать ощущение свободы выбора «иллюзорным» или же признать механистическую концепцию негодной в качестве универсальной картины мира. Сейчас уже трудно сказать, в какой пропорции разделялись на эти две точки зрения мыслящие люди «доквантовой» эпохи. Если подходить к вопросу с современной позиции, то, даже не зная ничего о квантовой механике, надо решительно встать на вторую точку зрения. Мы понимаем сейчас, что механистическая концепция, как и любая иная концепция, является лишь вторичной моделью мира по отношению к первичным данным опыта, поэтому непосредственные данные опыта всегда обладают приоритетом перед любой теорией. Ощущение свободы выбора есть первичный опытный факт, как и другие первичные факты духовного и чувственного опыта. Теория не может отвергнуть этого факта, она может лишь сопоставить с ним какие-то новые факты — процедура, которую мы при выполнении определенных условий называем объяснением факта. Объявить свободу выбора «иллюзорной» так же бессмысленно, как объявить человеку, у которого болит зуб, что его ощущение «иллюзорно». Зуб может быть совершенно здоров, а ощущение боли — быть результатом раздражения определенного участка мозга, однако от этого оно не становится «иллюзорным».
Квантовая механика разрушила детерминизм. Прежде всего, оказалось ложным представление об элементарных частицах как о маленьких тельцах, движущихся по определенным траекториям, а, следовательно, рухнула и вся механистическая картина мира — такая понятная, привычная и, казалось бы, совершенно несомненная. Физики XX в. уже не могут ясно и убедительно, как это умели физики XIX в., рассказать людям, что на самом деле представляет собой мир, в котором они живут. Но детерминизм рухнул не только как часть механистической концепции, но и как часть любой картины мира. В принципе можно было бы представить себе такое полное описание (картину) мира, которое включает лишь реально наблюдаемые явления, но дает однозначные предсказания всех явлений, которые когда-либо будут наблюдаться. Теперь мы знаем, что это невозможно. Мы знаем, что существуют ситуации, в которых принципиально невозможно предсказать, какое из множества мыслимых явлений осуществляется в действительности. Более того, эти ситуации являются согласно квантовой механике не исключением, а общим правилом; строго детерминированные исходы являются как раз исключением из правила. Квантово-механическое описание действительности — существенно вероятностное описание, а однозначные предсказания оно включает лишь как предельный случай.
В качестве примера рассмотрим опыт с дифракцией электронов, изображенный на рис. 13.1. Условия опыта полностью определены, когда заданы все геометрические параметры установки и начальный импульс электронов, испускаемых пушкой. Все электроны, вылетающие из пушки и попадающие на экран, находятся в равных условиях и описываются одной волновой функцией. Между тем они поглощаются (дают вспышки) в разных точках экрана, и заранее предсказать, в какой точке даст электрон вспышку, невозможно; нельзя даже предсказать, отклонится ли он на нашем рисунке вверх или вниз, можно указать только вероятность попадания в различные участки экрана.
Позволительно, однако, задать вопрос: почему мы уверены, что если квантовая механика не может предсказать точку попадания электрона, то и никакая будущая теория не сможет сделать этого?
На этот вопрос мы дадим не один, а целых два ответа; вопрос вполне заслуживает такого внимания.
Первый ответ можно назвать формальным. Он таков. Квантовая механика основана на том принципе, что описание с помощью волновой функции является максимально полным описанием состояний квантовой частицы. Этот принцип в виде вытекающего из него соотношения неопределенностей подтвержден огромным числом экспериментов, интерпретация которых содержит понятия только низкого уровня, непосредственно связанные с наблюдаемыми величинами. Выводы квантовой механики, включающие более сложные математические расчеты, подтверждены еще большим числом экспериментов. И нет решительно никаких указаний на то, что мы должны усомниться в этом принципе. Но он равнозначен невозможности предсказаний точного исхода опыта. Например, чтобы указать точку на экране, куда попадает электрон, надо знать о нем больше, чем дает волновая функция.
Второй ответ мы начнем с того, что попытаемся понять, почему нам никак не хочется согласиться с невозможностью предсказания точки, куда попадет электрон. Столетия развития физики приучили людей к мысли, что движение неодушевленных тел регулируется исключительно внешними по отношению к ним причинами и что путем достаточно тонкого исследования эти причины можно всегда обнаружить, подсмотреть их. Это убеждение было вполне оправдано, пока считалось возможным подсматривать за системой, не влияя на нее, что имело место в опытах над макроскопическими телами. Представьте себе, что на рис. 13.1рассеиваются не электроны, а пушечные ядра и что вы изучаете их движение. Вы видите, что в одном случае ядро отклоняется вверх, а в другом — вниз, и вы не желаете верить, что это происходит само по себе, а убеждены, что различие в поведении ядер объясняется какой-то реальной причиной. Вы снимаете полет ядра на кинопленку или предпринимаете еще какие-то действия и, в конце концов, находите такие явления A 1и A 2, связанные с полетом ядра, что при наличии A 1ядро отклоняется вверх, а при наличии A 2— вниз. И вы говорите, что A 1— причина отклонения ядра вверх, а A 2— причина отклонения вниз. Возможно, что ваша камера окажется несовершенной или вам просто надоест исследование и вы не найдете искомой причины. Но вы все-таки останетесь в убеждении, что на самом деле причина существует, т. е. если бы вы получше посмотрели, то явления A 1и A 2были бы обнаружены.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: