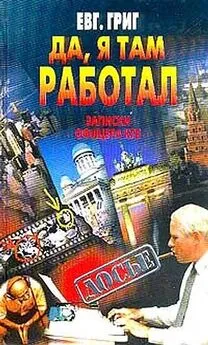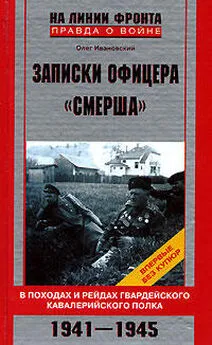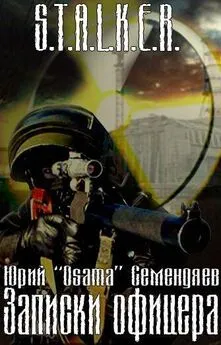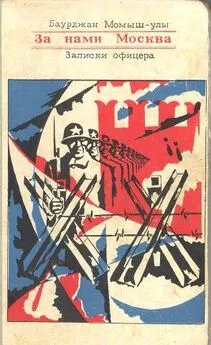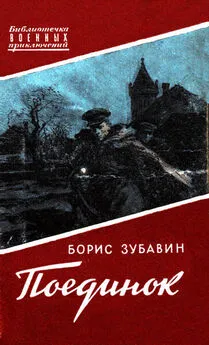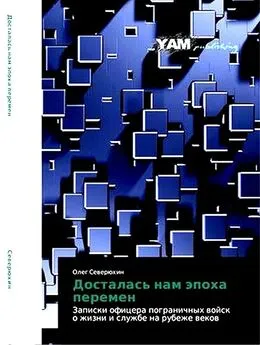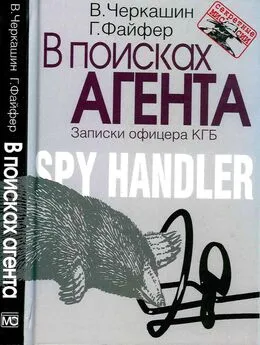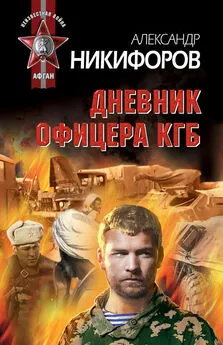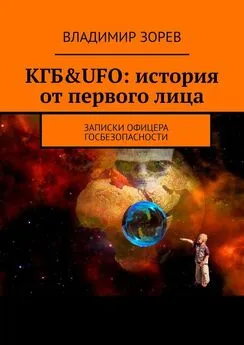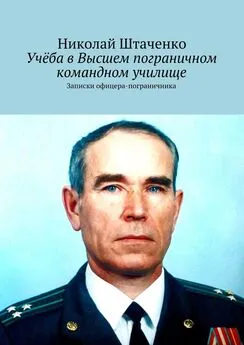Е. Григ - Да, я там работал: Записки офицера КГБ
- Название:Да, я там работал: Записки офицера КГБ
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Олма-Пресс
- Год:2001
- ISBN:5-224-02112-Х
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Е. Григ - Да, я там работал: Записки офицера КГБ краткое содержание
Работать «в поле» … На жаргоне сотрудников секретных служб это означает — заниматься оперативной работой. Автор, в прошлом рядовой контрразведчик КГБ, проработал «в поле» 33 с половиной года — в мобильных группах наружного наблюдения, в знаменитом «Доме 2» на площади Дзержинского (Лубянке), «под крышей» гражданских ведомств. В Москве и Нью-Йорке, в Грозном и Хельсинки, в Питере, Вашингтоне и много где еще он наблюдал за интересовавшими КГБ людьми, участвовал в разнообразных оперативных мероприятиях, а также размышлял о том, что происходило на протяжении этих 33 лет с ним, с КГБ и со всей страной.
Да, я там работал: Записки офицера КГБ - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Люди из «Дома 2» хотели выяснить, кто именно принимал подарки (приемники были дорогие, очень высокого класса), чтобы наказать взяточников, а возможно, и «вербануть» кого-то из них.
В один прекрасный день японцев чем-то заняли надолго, кажется, все в том же МВТ, и, пока на японские уши вешали русскую лапшу, «технари» из КГБ поместили в каждый из имевшихся у японцев радиоприемников крошечный кусочек какого-то радиоактивного вещества, излучение которого можно было «поймать» карманным счетчиком Гейгера в радиусе 3–5 метров от помеченного предмета. Счетчики, которые нам выдали, были снабжены бесшумными вибраторами, и наличие излучения можно было определить, не вынимая Гейгер из кармана.
По утрам, когда японцы выходили из гостиницы, кто-нибудь из нас приближался к ним и «слушал»: если из портфеля или «фуросика» шел сигнал, ясно было, что сегодня возможны одаривания очередных счастливцев.
Через какое-то время все приемники были раздарены, все получившие их выявлены, приемники у них, понятное дело, отобраны, а из приемников радиоактивные кусочки извлечены, так как какой-то чисто теоретический вред — так нам объяснили в начале выполнения этого задания — они могли-таки нанести.
Извлечены все, кроме одного… В одном из приемников, который был «помечен» вместе со всеми остальными, после вручения его японцами советскому чиновнику метки не оказалось.
До сих пор не знаю, насколько действительно опасны были эти метки, но в гостинице, где проживали японцы, под предлогом ремонта — столь любимого Советами предлога — выселили постояльцев с двух этажей, и «технари» из КГБ приступили к поискам. Злополучный кусочек был найден за плинтусом одного из номеров этажом ниже (!), и все успокоились.
Вскоре стало ясно, что в нескольких районах города радиоактивный фон выше, чем в других; но на счетчиках не было градуировки, определить уровень фона было невозможно.
Как при любом спецзадании, никакой информацией с другими сотрудниками мы делиться не имели права.
Японцы нас немало забавляли — оба здорово пили, не вылезали из ресторанов — мы соответственно тоже, — а любители ресторанов и их знатоки в «наружке» имелись в достаточном количестве. Однажды мертвецки пьяного японца спасла от смерти горничная в гостинице — увидела, как из-под двери номера лилась вода. Беднягу вытащили из ванны уже синего, каким-то чудом откачали…
Нашему отделу с японцами работать приходилось нечасто, но даже мы чувствовали какую-то особенную «ауру» вокруг них.
Вроде бы ничего особенного — они работали, осматривали достопримечательности, веселились; как-то раз двое вышли из гостиницы «Ленинградская» с бейсбольными рукавицами и мячами и с полчаса перекидывались мячиками, от души хохоча. И все же они, как никакие другие иностранцы, выглядели здесь чужеземцами.
Глобальная японская экспансия тогда только начиналась, о японцах вообще знали немного: Страна восходящего солнца, особенная жестокость во время войны, джиу-джитсу, кимоно, «Чио-Чио-Сан», гейши, традиционное восточное коварство, Хиросима, едят палочками, император, Фудзияма…
Сейчас японоведы-журналисты и ученые показали нам Японию в обрамлении цветущей сакуры, на фоне необыкновенных технических успехов, небывалого трудолюбия, национального единства и преданности идее. Но мне трудно свыкнуться с тем, что «цивилизованное» человечество из всех этих достоинств восприняло только узаконенную возможность неожиданно, ловко, смачно, по-японски ударить противника ногой в лицо.
«Запад есть Запад, Восток есть Восток…»
Итак, работа теперь соединялась с учебой. Изучение языка требует регулярных длительных занятий — гипнопедия, ускоренные курсы никогда не создадут глубокой базы знания и понимания языковых структур, не заложат в памяти той основы, которая даже после нескольких лет «молчания» позволит через два — три дня пребывания в стране языка вновь заговорить на нем.
Посещать институт нужно было вечерами, трижды в неделю: лингафон, лекции, семинары, контрольные работы. Все это часто накладывалось на вечерние смены в «наружке», постоянно приходилось договариваться с товарищами о подменах с последующей «отдачей» дневных смен. Видя, как относилось к нашей учебе руководство, товарищи всегда шли навстречу. Повезло и со слушателями группы, где я учился: подобрались совершенно разные, но невероятно трудолюбивые студенты — за время учебы две девушки в нашей группе вышли замуж, стали мамами и не взяли академических отпусков. С середины лекции или занятия они срывались с места и мчались кормить грудных отпрысков… Наверное, не только для меня учеба была единственным путем вперед и наверх.
Помогала жесткая самодисциплина: подъем в 5.30, зарядка, завтрак, иногда — по графику — поездка в гараж за опермашиной, потом — в отдел, инструктаж, оснащение техникой и проверка готовности бригады, восемь — десять, а то и двадцать часов работы, возвращение в отдел, отписка, перекус, в учебный день — бегом в институт и шесть часов занятий.
Прийдя к полуночи домой, смертельно хотелось «ухнуть в койку», но… Писать я могу почти так же быстро, как и читать — лекции записывал дословно, но разобрать что-нибудь на следующий день уже не мог, поэтому часто усаживался на кухне и вновь, не торопясь и разборчиво, переписывал. Мои записи были одними из лучших, и пользовались ими многие.
Выбираясь в кино, я чувствовал себя грешником, подсчитывая, сколько за это время можно было выучить, например, латинских слов…
Понемногу учеба становилась «идеей фикс». Воскресений для «наружников» не существовало, праздников обычно тоже: в праздничные дни работы было еще больше, и если снимали слежку с каких-либо объектов наблюдения, то лишь для того, чтобы расставить нас в тех местах, где «противник мог омрачить светлый праздник трудящихся»…
Те «трудящиеся», праздники которых могли быть бессовестно омрачены противником, прибывали на Красную площадь в лимузинах предпочтительно черного цвета и особо мягкого хода, как правило, в сопровождении других трудящихся, призванных охранять их «тела». Это была «девятка» — сотрудники 9-го Управления КГБ. Среди них было немало славных, храбрых ребят — некоторые переходили работать в «семерку», кое-кого я встречал позже и в 5-м Управлении, но в целом эта когорта производила неприятное впечатление своей бесцеремонностью по отношению к окружающим и каким-то восторженным раболепием перед охраняемыми «телами». Слов нет, служба ответственная и потенциально опасная, но и она не дает права на такую потерю лица…
Эта работа всегда носит какой-то истерический характер — обязательные гонки при сопровождении августейших «тел» с перекрыванием движения чуть ли не в половине города, расталкивание зевак и прохожих в редких случаях пешего передвижения «тел», грубые окрики…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: