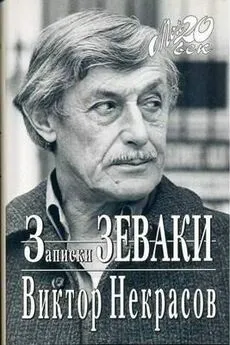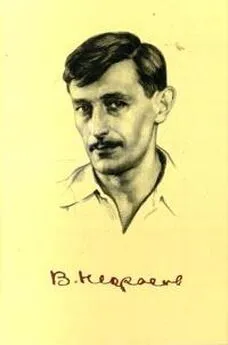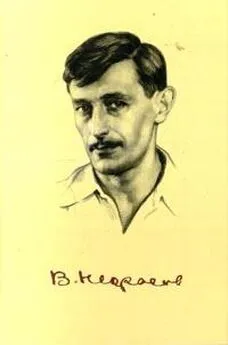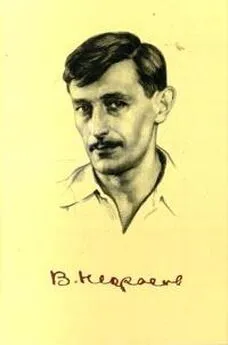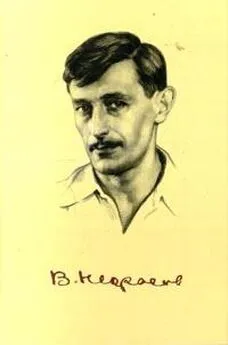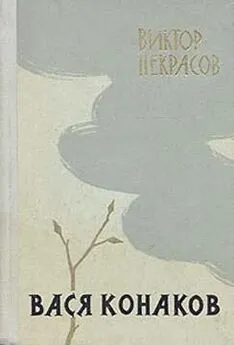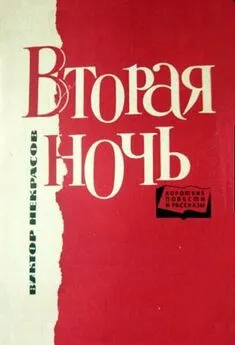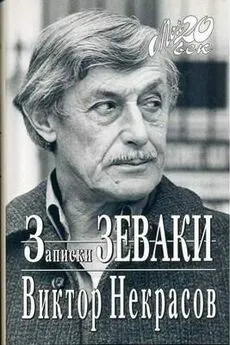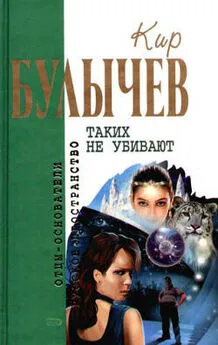Виктор Некрасов - Через сорок лет…
- Название:Через сорок лет…
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Вагриус
- Год:2003
- Город:Москва
- ISBN:5-98264-005-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Некрасов - Через сорок лет… краткое содержание
«Враг будет разбит! Победа будет за нами! Но дело наше оказалось неправое. В этом трагедия моего поколения. И моя в том числе…»
Через сорок лет… - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Вам надо пальцы правой руки приучать к мелким движениям, — сказал мне как-то лечащий врач по фамилии Шпак. — Есть у вас любимая девушка? Вот и пишите ей письма ежедневно. Только не левой, а правой рукой. Хорошее упражнение.
Любимой девушки у меня не было, и я, примостившись где-то на склонах спускавшегося из госпиталя к Красному стадиону парка, стал писать о Сталинграде — все еще было свежо.
В день, когда мне стукнуло тридцать пять и первая половина (на сегодняшний день…) жизни кончилась, рукопись была уже в наборе. Исправлений почти никаких, дописана была только концовка — «для композиционной закругленности». До этого заветная моя папка побывала у Твардовского (он-то и порекомендовал ее журналу), а к нему попала из рук Владимира Борисовича Александрова, известного критика и чудака, прожужжавшего всем уши: «Простой офицер, фронтовик, слыхом не слыхал, что такое социалистический реализм… Прочтите обязательно!»
Да — слыхом не слыхал! Читал и боготворил Ремарка, конечно же, Хемингуэя — все им тогда увлекались, до того Кнута Гамсуна, в самые юные годы о войне — «Севастопольские рассказы». Вот и все. Никаких «Разгромов», «Разломов» и Николаев Островских. Разве что Бабель и Ильф с Петровым.
И вот — война!
Тут-то мы подошли к самому существенному, для чего, собственно говоря, это послесловие и пишется.
Страшная мясорубка, унесшая столько жизней, начавшаяся с «вероломного нападения», десятидневного сталинского то ли запоя, то ли депрессии, трагического отступления и немыслимых потерь, закончилась красным флагом над Рейхстагом. Для всего моего поколения годы эти оказались переломными, экзаменом. Одинаково для полуграмотного Валеги с далекого Алтая и интеллигентного горожанина, без особого успеха подвизавшегося на подмостках и писавшего никому не нужные рассказики.
Тридцатилетний, но все еще мальчишка, мирно дремавший на военных занятиях в институте (беседа Фарбера с Керженцевым под звуки Пятой симфонии), получил в свое распоряжение восемьдесят «годных необученных» гавриков и должен был обучить их военному искусству. Пройдя пешком от Ростова до Волги, запасной наш саперный батальон обосновался в захудалой деревушке Пичуга на крутом берегу и стал долбить колхозными лопатами насквозь промерзший грунт. Никто из нас, командиров, в глаза не видал живой мины, детонатора, взрывателя, бикфордова шнура. О толе (тринитротолуоле) знали только, что он похож на мыло, а динамит — на желе. Оружия не было. Стрелять не умели. За всю зиму каждый солдат на стрельбище сделал по одному выстрелу — патронов и на фронте-то было в обрез.
К весне 42-го года рядовой состав был отправлен в Крым, где и сложил свои кости, а комсостав, полковыми инженерами, в действующую армию, в район Донца. Оружия по-прежнему не было. Из станицы Серафимович наш стрелковый (!) полк выступил с палками вместо винтовок на плечах. Полковая артиллерия — бревна на колесах от подвод. Во всем полку только две учебные винтовки — их торжественно несли два ассистента по бокам знамени — святыни полка. Мы бодро, «С места песню!», рубанули шаг, бабы зарыдали: «Родимые вы наши, с палками-то на немцев!» Кто мог придумать этот цирк — до сих пор ломаю голову.
На передовую угодили прямо к началу «плана Барбаросса». Оружие получили за сутки до того, как «вступили в дело». Солдаты — мосиновские винтовки образца 1891 года, офицеры — пистолеты ТТ. И то, и другое держали в руках первый раз в жизни. Попытались тренироваться на воронах, запретили — передовая рядом.
«Вступление в дело» вылилось в повальное бегство. Утром «Юнкерсы-88» засыпали бомбами, на бреющем пронеслись «мессера» и полезли на нас танки. Мы лежали в кустах «рубежа», который должны были держать, и тихо заполняли штаны. Я скомандовал: «По одному, перебежками, к той роще!» — и сам за бойцами засверкал пятками. Знаменитый Нурми мог мне позавидовать…
Так началась «моя» война. Закончилась она в июле 1944 года в Люблине — пуля немецкого снайпера с крыши дома на Краковском Пшедместье перебила правую плечевую кость.
Через полгода был демобилизован, стал именоваться «инвалидом Отечественной войны II-й группы», получил пенсию. Оставалось только передвигать флажки на большой, немецкого происхождения, карте Европы, повешенной на стене, на самом видном месте.
9 мая 45-го мы все напились, без конца целовались, у кого сохранились пистолеты — стреляли в воздух и опять бежали за водкой.
Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами! Предсказание заики Вячека — Каменная задница, он же Бараний лоб, как звали в гимназии юного Вячеслава Скрябина, через четыре года исполнилось в этот незабываемый весенний день.
Мы победили! Фашизм — самое страшное на свете — разгромлен. Муссолини повешен вверх ногами, Гитлер покончил жизнь самоубийством. Через месяц черно-красные стяги с орденами и свастиками падут к ногам победителя — великий Сталин будет улыбаться с Мавзолея.
Победителей не судят! Увы! Мы простили Сталину все! Коллективизацию, тридцать седьмые годы, расправу с соратниками, первые дни поражения. И он, конечно же, понял теперь всю силу народа, поверившего в его гений, понял, что нельзя его больше обманывать, что только суровой правдой в глаза можно его объединить, что к потокам крови прошлого, не военного, а довоенного, возврата нет. И мы, интеллигентные мальчики, ставшие солдатами, поверили в этот миф и с чистой душой, открытым сердцем вступили в партию Ленина — Сталина.
В мире воцарится мир! Взошло наконец солнце свободы! Для всех. Для освобожденных народов, для нас, для меня…
Именно в это — что Красная Армия принесла миру мир и свободу! — верил я, когда полупарализованными пальцами выводил на склонах Красного стадиона в школьной тетрадке первую фразу:
«Приказ об отступлении приходит совершенно неожиданно…»
Тридцать шесть лет назад я так думал. Дико тосковал по березовым своим «колышкам», по друзьям-офицерам, чуть меньше по начальству. И хотелось, чтоб все любили мою Красную Армию, армию-освободительницу. Она заслужила это — своею кровью, потом, ранами, могилами…
Ну, а Сталин, Верховный Главнокомандующий?
В начале 1947 года, когда «Окопы» мои попали в издательство «Советский писатель» (до присуждения еще премии), вызван я был цензоршей, случай уникальный. Она укоризненно посмотрела на меня и сказала:
— Хорошую книгу вы написали. Но как же это так — о Сталинграде и без товарища Сталина? Неловко как-то. Вдохновитель и организатор всех наших побед, а вы… Дописали бы вот сценку, в кабинете товарища Сталина. Две-три странички, не больше…
Я прикинулся дурачком. Не писатель, мол, писал о том, что знал, что видел, а сочинять не умею. Не получится просто, поверьте мне.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: