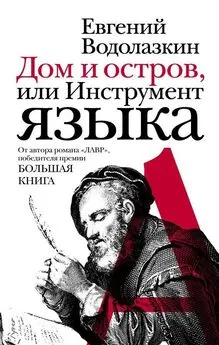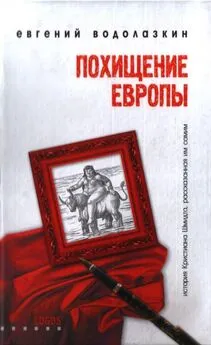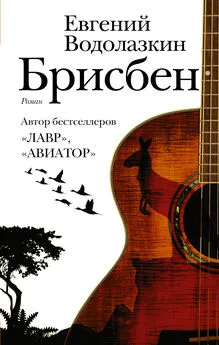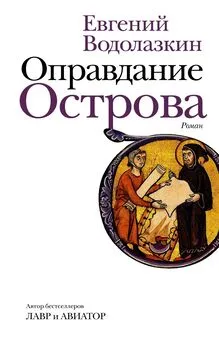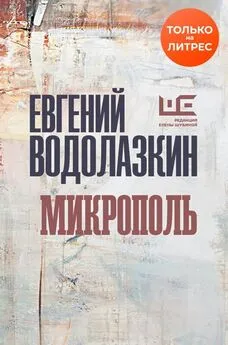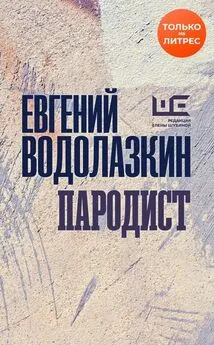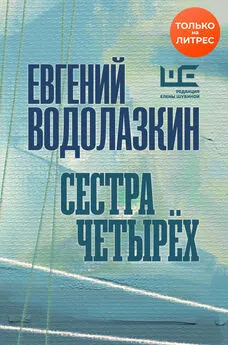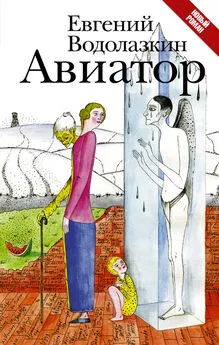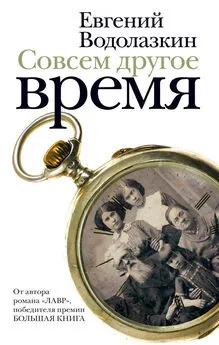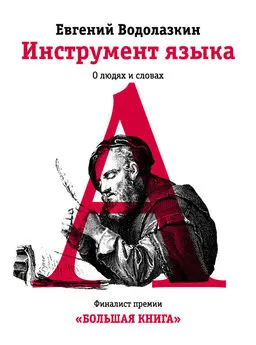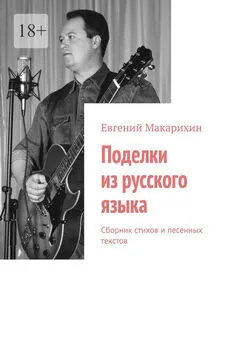Евгений Водолазкин - Дом и остров, или Инструмент языка (сборник)
- Название:Дом и остров, или Инструмент языка (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-083767-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Водолазкин - Дом и остров, или Инструмент языка (сборник) краткое содержание
Реакция филологов на собрата, занявшегося литературным творчеством, зачастую сродни реакции врачей на заболевшего коллегу: только что стоял у операционного стола и — пожалуйста — уже лежит. И все-таки «быть ихтиологом и рыбой одновременно» — не только допустимо, но и полезно, что и доказывает книга «Дом и остров, или Инструмент языка». Короткие остроумные зарисовки из жизни ученых, воспоминания о близких автору людях, эссе и этюды — что-то от пушкинских «table-talk» и записей Юрия Олеши — напоминают: граница между человеком и текстом не так прочна, как это может порой казаться.
Дом и остров, или Инструмент языка (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Если бы Лихачев был жив, если бы этот кокон, которым был Пушкинский Дом, сохранился в идеальном виде, Вы бы стали писателем? Современность вообще заинтересовала бы Вас?
Думаю, стал бы. Дело в том, что у каждого человека существует внутренняя логика развития. Это только кажется, что поезд внезапно сменил колею. На самом деле, стрелка была уже давно переведена. Я обратился к литературе не потому, что наука изменилась, — изменился я. Вообще говоря, обращение к писательству не может быть произвольным, для всякого высказывания должна возникнуть необходимость. Помните старый анекдот о лорде Генри, который до тринадцати лет не говорил — и вдруг произнес фразу: «Однако, сэндвич подгорел». Сбежался весь дом, все стали спрашивать: «Лорд Генри, почему вы молчали тринадцать лет?» И он ответил: «Потому что тринадцать лет с сэндвичами было всё в порядке».
Но это и есть мой вопрос: Вы стали писать потому, что с сэндвичами стало не всё в порядке?
Я бы сказал так: сэндвичей стало не хватать, я по чувствовал голод. Появилось то, что не помещалось в исследования хроник и хронографов, что потребовало иного языка выражения. Более того, я бы сказал — появилась потребность в том языке выражения, который включает в себя иррациональное. В научном труде смысл равен тексту, в труде же литературном возникает и надтекстовый смысл. Это в некотором отношении взгляд за горизонт.
Как появляются такие особенности зрения?
Как дальнозоркость — с возрастом. При осмысленном отношении к жизни возраст — это одно из имен опыта. И в каждом возрасте возникают новые вопросы к жизни.
Вы проводите какие-нибудь параллели между собой и главными героями своих романов? Много ли у Вас с ними общего?
Создание литературного героя уподоблю отцовству. Автор предоставляет героям некий генетический материал, и закономерно возникает ожидание (в том числе у самого автора), что страницы романа будут усеяны маленькими авторскими копиями или копиями отдельных его черт. Когда же эти человечки появляются на свет, выясняется, что они не очень похожи на автора. Потому что зачатие — процесс двусторонний, и в качестве партнера автора выступает то, что мы называем «объективной реальностью». Эта реальность, сидя в голове у всё того же автора, вынашивает и формирует плод, именно она делает героя неуправляемым. Когда же автор волевым образом вмешивается «от себя», он, на мой взгляд, добавляет не столько то, что ему, автору, свойственно, сколько то, что ему несвойственно: своего рода компенсирующая функция литературы. Сходство автора с героем чаще всего обманчиво.
Смотрю на подпись: автора этого вопроса зовут Евгений. В нашем с Вами диалоге, Евгений, можно было бы обнаружить феномен двойничества, но такой вывод был бы поспешным. Если Вы, возможно, что-то обо мне знаете, то я о Вас — несмотря на то, что сам Евгений, — не знаю ничего. Таково примерно отношение героя к автору.
У Вас очень зоркая проза, в ней множество визуальных впечатлений героев и связанных с этим ощущений. Это роднит Вас с Набоковым. Похоже, он в свое время произвел на Вас большое впечатление, хотя стиль у Вас свой, не набоковский. Как Вам удалось не попасть под его интонационное влияние?
Со временем я стал понимать, что сила литературного произведения состоит не только в технических возможностях автора. Тот универсум, который создает автор, «подчеркнутым» стилем до некоторой степени разрушается. Этот стиль разоблачает текстовую, искусственную, природу созданного мира.
Мне кажется, что Набоков достиг максимума того, чего можно достичь посредством стиля. В юности, когда читательский опыт был богаче жизненного, набоковские тексты вызывали у меня радостное изумление. Сейчас я тоже отдаю ему должное, но, скажем так, гораздо спокойнее. «Вкушая» Набокова, я не всегда чувствую сытость: так после пирожных иногда хочется хлеба. Разумеется, я пишу, держа в голове стилевой опыт великих, но уже не боюсь «въехать» в Набокова или в кого-то другого. Этот страх свойствен юности, когда собственное ядро еще не сформировано, и можно легко перенять чейто стиль. Ведь по сути стиль — производное от этого ядра. Его излучение.
Недавно, обсуждая с одним знакомым роман «Соловьев и Ларионов» и хваля его, я услышала: «Это потому, что у тебя уже ностальгия по ушедшему постмодернизму». Мне эта мысль показалась забавной, потому что не могу себя назвать поклонницей постмодернизма. Из русских прозаиков, к которым можно применить этот термин, я очень люблю только Венедикта Ерофеева и Сашу Соколова. Читая Вас, я, конечно, замечала некоторую постмодернистскую отстраненность и пастиш, иронию, но скажите, Вы считаете себя постмодернистом? И какие у Вас отношения с вышеназванными писателями?
Не могу сказать, что «чистые» постмодернисты мне как-то по-особому близки. Постструктуралистское заявление о том, что автор — инструмент языка, ими было понято слишком буквально. Философия художественного творчества учит нас (из современных авторов это хорошо выражено у о. Владимира Иванова), что у настоящего произведения должен быть свой эйдос, первообраз, выражением которого это произведение является. Один из недостатков постмодернизма (а у него, разумеется, есть и свои достоинства) заключается в том, что за стилевой эквилибристикой порой ничего не стоит. Такая себе рама без портрета. Другое дело, что какие-то характерные для постмодернизма приемы могут быть использованы для отражения эйдоса. И это — случай Венедикта Ерофеева и Саши Соколова. Вещи их — настоящие, боль — невыдуманная, а всё остальное — вопрос средств выражения.
Что касается моих предпочтений как человека пишущего, могу сказать, огрубляя, что ценю реалистическое сюжетное повествование. Из чего, разумеется, вовсе не следует, что я должен писать, как Мамин-Сибиряк. Я учитываю современную литературную технику, и иногда — как в хорошем автомобиле — мне доставляет удовольствие нажимать на разные ее кнопки и педали. Важно лишь не забывать, куда едешь.
Какие тенденции в современной литературе кажутся Вам наиболее интересными?
Мне интересны те тенденции, которые указывают на возвращение литературы к нормальному состоянию. Литература переломных эпох — нервная, публицистичная. Даже спустя десятилетия чувствуется, что автора трясет. Я не против переломных эпох как темы, но хорошо это получается только тогда, когда пишущий достигает внутреннего равновесия. А для этого требуются перемены в общественном сознании, которым, в свою очередь, необходимо время.
Вспомните, какими мы были еще недавно: голодными, растерянными, истеричными. Наша литература скрежетала от «жести», а мы читали ее, противоестественным образом успокаиваясь, потому что ее картинки были страшнее реальности. Литература начала проверять границы дозволенного — в этическом и эстетическом измерениях — и не обрела их. Знаете, мне кажется, что от всего этого читатель уже устал. Он хочет добротных («добро» здесь очень кстати) и по-хорошему литературных вещей. Так после демобилизации тянет надеть костюм.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: