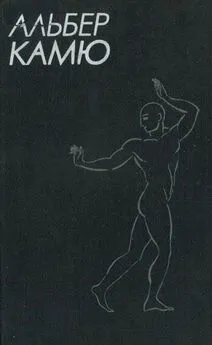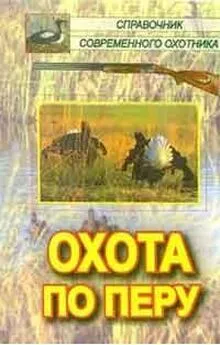Леонид Гроссман - Цех пера: Эссеистика
- Название:Цех пера: Эссеистика
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Аграф
- Год:2000
- Город:Москва
- ISBN:5-7784-0139-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Леонид Гроссман - Цех пера: Эссеистика краткое содержание
Книга включает статьи и эссе известного историка литературы Леонида Гроссмана, ранее изданные в составе трех сборников: «От Пушкина до Блока: Этюды и портреты» (1926), «Борьба за стиль: Опыты по критике и поэтике» (1927) и «Цех пера: Статьи о литературе» (1930).
Изучая индивидуальный стиль писателя, Гроссман уделяет пристальное внимание не только текстам, но и фактам биографии, психологическим особенностям личности, мировоззрению писателя, закономерностям его взаимодействия с социально-политическими обстоятельствами.
Данный сборник статей Гроссмана — первый за многие десятилетия.
Цех пера: Эссеистика - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Все это внушало Пушкину несомненное уважение к Липранди. В бумагах поэта сохранился хвалебный отзыв о кишиневском полковнике, «соединяющем ученость истинную с отличными достоинствами военного человека» (бумаги Пушкина, I, с. 279). В своих письмах к разным лицам он «дружески обнимает» Липранди, называет его своим «добрым приятелем», считает его среди нескольких лиц, «близких своему воспоминанию». В одном из одесских писем он даже сознается, что ему «брюхом хочется видеть Липранди».
Вот почему отзвуки автобиографического признания слышатся нам в заявлении автора «Выстрела» о Сильвио: «Он любил меня, по крайней мере, со мной одним оставлял обыкновенное свое резкое злоречие и говорил о разных предметах с простодушием и необыкновенною приятностью» [127].
Их личные отношения закончились в 1824 г. За две недели до выезда Пушкина из Одессы, т. е. в июле 1824 г., Липранди виделся с ним в последний раз. «Два-три письма в нескольких строчках, из коих последнее было из Орла, когда он ехал на Кавказ к Паскевичу, заключили наши сношения» [128].
Пушкин, впрочем, продолжает ласково упоминать Липранди в своих письмах. Не лишено интереса, что в последний раз он это делает через два месяца по окончании «Выстрела», в декабре 1830 г. («Выстрел» был написан 12–14 октября [129]).
Образ Липранди не мог не привлечь к себе художественного внимания Пушкина. Потомок испанских грандов, участник наполеоновских походов, независимый противник существующей власти, байронически сочувствующий поднявшейся европейской вольницы; при этом бесстрашный дуэлист, знаток экзотических стран юго-востока, стратег и историк, боевой офицер, избороздивший все военные пути Европы от Иденсальми до Бородина и Парижа, герой знаменитых сражений, отличенный уже на двадцатом году золотой шпагой, чтоб затем неожиданно выйти из полка за причастность к тайному политическому обществу, человек загадочных контрастов — роскоши и нужды, кутежей и пасмурных раздумий, кровавых подвигов и сосредоточенной мысли; хладнокровный мастер пистолета, участвующий во всех поединках, и при этом владелец редкостного военно-исторического книгохранилища, — все это, вместе взятое, сплеталось в интригующий и привлекательный образ, столь благодарный для разработки романтическим поэтом. Подполковник 16-й пехотной дивизии Иван Петрович Липранди не мог не поразить фантазии двадцатилетнего автора «Кавказского пленника». И он действительно оставил свой след в творческой памяти поэта.
Не подозревавший о художественном преображении кишиневского штаб-офицера в беллетристике Пушкина, их общий приятель Горчаков совершенно правильно свидетельствовал впоследствии, что Липранди «своей особенностью не мог не привлекать Пушкина: в приемах, действиях, рассказах и образе жизни подполковника много было чего-то поэтического, не говоря уже о его способностях, остроте ума и сведениях» [130].
Пушкин, мы знаем, питал жадный интерес к таким фигурам привлекательных авантюристов и отважных чудаков. Якубович, тоже отважный воин, мрачный герой, бреттер и участник тайных обществ, долго был героем его воображения. Толстой-американец, получивший от Грибоедова прозвание ночного разбойника и дуэлиста, привлекал внимание Пушкина и, как известно, послужил ему моделью для секунданта Ленского. Мог ли он пройти равнодушно мимо кишиневского офицера, поражавшего своих однополчан не только остротой ума и обширностью познаний, но еще более оригинальностью своего быта, глухою и соблазнительною славою загадочного политического заговорщика?
Липранди действительно выступил перед поэтом «героем таинственной какой-то повести», и именно таким впоследствии вступил в его собственное творчество.
Все это могло бы вызвать в нас некоторую тревогу. Зная позорную изнанку жизни и деятельности Липранди, мы, естественно, могли бы пожалеть об эстетической канонизации этого отталкивающего персонажа под оживляющим пером Пушкина.
Но в плане своих личных отношений и творческих восприятий поэт не ошибся. У мрачного провокатора, случайно вступившего в его биографию, была одна искупительная черта. Этот холодный сыщик, поставивший под расстрел Достоевского, искренно любил Пушкина. Мы уже видели, что история их близости непререкаемо свидетельствует о глубоком внимании и нежной опеке старшего друга над его юным сотоварищем, которого он приобщает к своему житейскому опыту и научной культуре, не переставая оберегать повышенное самолюбие, обостренное чувство чести, духовные интересы и даже нередко жизнь Пушкина.
Друзья поэта высоко оценили эти отношения. Баронесса Вревская (в девичестве Евпраксия Вульф), горячо преданная памяти своего тригорского поклонника, в 1839 г. в доме Сергея Львовича много беседовала с постаревшим уже Иваном Петровичем об их покойном общем друге и вынесла из этого разговора впечатление, что Липранди «восторженно любил Пушкина» («il l’a aimé avec enthousiasme»).
Поэт, мы знаем, не остался в долгу. Он запомнил образ своего кишиневского приятеля и по-своему обессмертил его. Он пронес сквозь свои литературные и жизненные скитальчества воспоминание об одном необычайном офицере орловской дивизии и во всей свежести яркого художественного восприятия сохранил его в своей поэтической памяти.
И вот однажды, в золотую болдинскую осень, среди пышного творческого празднества, между «Моцартом и Сальери» и эпилогом «Онегина», поэт вспомнил увлекательный рассказ спутника своих южных кочевий. Бреттерский анекдот развернулся в драгоценную новеллу, а самый рассказчик его превратился в главного героя этой короткой и трагической повести.
Нам остается вглядеться в художественные принципы Пушкина при этой зарисовке эпохи и портретировании современников.
Мы видели, что художественный метод Пушкина в изображении Сильвио сводится прежде всего к точной фиксации реальных черт его модели. Фантастический стиль образа нисколько не нарушает общего тона достоверной мемуарной записи, господствующей в характеристике героя. Если Липранди сохранил для нас образ Пушкина в своих дневниках и воспоминаниях, поэт запечатлел таинственного полковника в плане своей художественной прозы — в романтической повести, восходящей к подлинной житейской практике этого бесстрашного дуэлиста.
Поэт выполнил свое задание с изумительной близостью к непосредственным свидетельствам жизни и показаниям исторической действительности. Он сумел во весь рост зарисовать своего героя, схватив в своем портрете все выдающиеся черты его своеобразного облика.
Это тем удивительнее, что новелла о Липранди выдержана в излюбленном Пушкиным жанре короткого и стремительного рассказа.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: