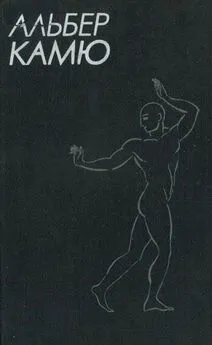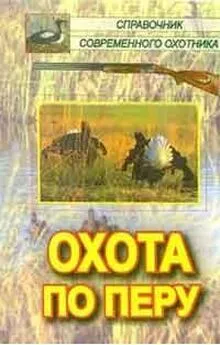Леонид Гроссман - Цех пера: Эссеистика
- Название:Цех пера: Эссеистика
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Аграф
- Год:2000
- Город:Москва
- ISBN:5-7784-0139-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Леонид Гроссман - Цех пера: Эссеистика краткое содержание
Книга включает статьи и эссе известного историка литературы Леонида Гроссмана, ранее изданные в составе трех сборников: «От Пушкина до Блока: Этюды и портреты» (1926), «Борьба за стиль: Опыты по критике и поэтике» (1927) и «Цех пера: Статьи о литературе» (1930).
Изучая индивидуальный стиль писателя, Гроссман уделяет пристальное внимание не только текстам, но и фактам биографии, психологическим особенностям личности, мировоззрению писателя, закономерностям его взаимодействия с социально-политическими обстоятельствами.
Данный сборник статей Гроссмана — первый за многие десятилетия.
Цех пера: Эссеистика - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Столько разъезжавший по Германии, столько бродивший по немецким музеям, Достоевский не чувствует влечения к темному, больному и жестокому миру ранней германской живописи: его влечет к себе просветленность жизни в творчестве великих итальянцев. В Дрезденской галерее он проходит мимо всех образцов жуткой живописи немецкого Возрождения, чтоб всецело отдаться светлым ощущениям иного искусства. Спаситель не привлекает его на картинах Кранаха и Гольбейна, где Он изображен с зияющими ранами глубокими стигматами, весь покрытый кровавым потом, с плетью и розгами в руках. Ему кажется, что от подобных изображений Христа «у иного еще может вера пропасть», и образ мертвого и разлагающегося Спасителя на картине Гольбейна он помещает в одной из самых мрачных зал убийцы Рогожина.
Все точные изображения мучений святых, которых колесуют или сжигают на кострах, все эти раздробленные члены, раскрытые язвы, искаженные лица, скорченные дикими судорогами тела распятых разбойников и святых вызывают в нем явное отвращение. Он любуется образом Христа на полотнах Тициана или Корреджио, где Богочеловек выступает, как в легенде Ивана Карамазова, благостным, светлым и мирным. Недаром келья старца Зосимы увешана гравюрами с великих итальянских мастеров. Достоевский постоянно искал в европейском искусстве гармонических начал живописи Возрождения.
От каторги и подполья, от черных каналов Петербурга, от темного погреба, где корчится в обманных судорогах забрызганный отцовской кровью эпилептик Смердяков, от всех этих жутких и мучительных видений он постоянно рвется в какой-то «свете тихий» ясного, улыбающегося и примиряющего творчества. Он приходит в восторг от солнечных видений Клода Лорэна, этого Рафаэля ландшафтной живописи, и устами своего Версилова восхищается его картиной «Акис и Галатея», где уголок греческого архипелага с цветущим побережьем, голубыми ласковыми волнами и закатными лучами представляется ему светлым воспоминанием о колыбели европейского человечества.
И как его любимый «Рыцарь бедный», которого так охотно вспоминают его герои, он ощущает какую-то вечную тоску по Мадонне. Культ Богоматери был ему близок и понятен. Он любил повторять народные речения о Богородице — «скорой заступнице, кроткой молельнице»… Знаменательным штрихом он отмечает в гостиной Версиловых, рядом с киотом старинных фамильных образов, «превосходную большую гравюру дрезденской Мадонны». Он старательно собирает у себя снимки с изображения Святой Девы Рафаэля, Мурильо, Корреджио, устами Мышкина сравнивает лица тихих и задумчивых девушек с образом кроткой гольбейновой Мадонны и привозит с собою из-за границы в Петербург громадных размеров копию Сикстинской Богоматери, которая постоянно висит в его рабочем кабинете [20] О степени его интереса к старой европейской живописи можно сулить по следующему его свидетельству: «Лет десять назад я приехал в Дрезден и на другой же день, выйдя из отеля, прямо отправился в картинную галерею».
.
С ненавистным католичеством Достоевский неизменно примирялся во всех великих созданиях романского искусства — в живописи и скульптуре, в архитектуре и музыке.
Готика восхищает его до того, что он готов стать на колени перед Кельнским собором. Осматривая св. Петра, он чувствует холод по спине. Знаменитая campanile флорентийского собора приводит его в восторг. А лепная porta Ghiberti в Баптистерии с барельефами на евангельские сюжеты, та самая дверь, которую Микеланджело признал достойной украшать врата рая, так восхищает Достоевского, что он мечтает накопить денег, чтобы купить фотографию этих дверей в натуральную величину.
Так же относится он и к старой европейской музыке. Много посещавший в молодости концерты и оперу, Достоевский значительно углубил свою природную музыкальность. Это чувствуется в таких отрывочных страницах его музыкальных впечатлений, как страстное пение Вельчанинова, фантастическая оратория Тришатова, скрипичный концерт знаменитого виртуоза С-ца, ночная импровизация Ефимова или гениальная фортепианная «штучка» Лямшина на тему «Франко-прусская война».
Наряду с русскими композиторами, с Глинкой и Серовым, которых Достоевский особенно любил, он умел ценить и старых европейских мастеров. Как все люди его поколения, он любил Мейербера [21] Замечательно, что Мейербером восхищался и один из первых наших вагнерианцев, близкий друг и сотрудник Достоевского, Аполлон Григорьев: «Мейербера и Мендельсона, как вы знаете, я страстно люблю, — пишет он из Флоренции. — В Пальяно ревут и орут „Гугенотов“, и все жидовски-сатанинское, что есть в музыке великого маэстро, выступает так рельефно, что сердце бьется и жилы на висках напрягаются. Меня пятый раз бьет лихорадка — от четвертого до конца пятого. Это вещь ужасная, с ее фанатиками, с ее любовью на краю бездны, с ее венчанием под ножами и ружейным огнем». ( Эпоха. 1865 г., II, 157).
.
Моцарт и Бетховен оставались всегда предметами его особенного поклонения, и любимой музыкальной вещью его была бетховенская Sonate pathétique. Он обнаруживает редкую критическую впечатлительность и смелость выражения, говоря в одной из ранних своих повестей, что музыка Роберта Дьявола кладбищем пахнет. Он даже знает старинные мотивы католических месс и с увлечением вспоминает Страделлу, имея в виду, вероятно, его самую популярную вещь — Oratorio di San Giovanni Battista, которая, по преданию, отсрочила трагическую смерть венецианского композитора и где именно раздаются те молитвенные, наивные, «в высшей степени средневековые» полуречитативы, о которых говорит Тришатов.
Такова универсальность знакомства Достоевского с европейским творчеством в его прошлом. Литература и, отчасти, философия, живопись и скульптура, музыка и архитектура, в их прекраснейших образцах, были ему знакомы. Его обширные чтения и долголетние скитания, при исключительной впечатлительности, широко приобщили его к западной культуре. Он понимал, что во многом обязан ей ростом собственной души, и не переставал благоговейно склоняться перед этими далекими и близкими своими учителями.
Вот почему он любил говорить, что «для настоящего русского Европа и удел всего великого арийского племени так же дороги, как и сама Россия, как и удел своей родной земли»; вот почему он называл Европу своим «вторым отечеством», «второю матерью нашей» и утверждал, что «народы Европы и не знают, как они нам дороги».
Но эти прекрасные слова никогда не относятся Достоевским к европейской современности. Их истинный смысл и назначение — служить смягчающими оговорками к его беспощадной критике современной Европы. Любовью к прошлому он хочет искупить свою глубокую неприязнь к настоящему. Христианский публицист, он после приступов вражды и отрицания, понимая, что любви к живому в нем нет и быть не может, призывает всю нежность своих воспоминаний о былом, которое не перестает восхищать, умилять и трогать его.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: