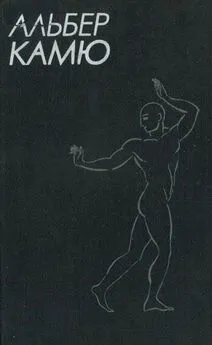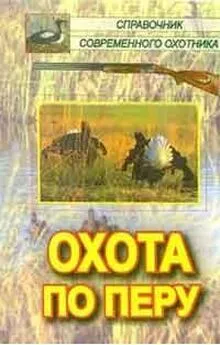Леонид Гроссман - Цех пера: Эссеистика
- Название:Цех пера: Эссеистика
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Аграф
- Год:2000
- Город:Москва
- ISBN:5-7784-0139-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Леонид Гроссман - Цех пера: Эссеистика краткое содержание
Книга включает статьи и эссе известного историка литературы Леонида Гроссмана, ранее изданные в составе трех сборников: «От Пушкина до Блока: Этюды и портреты» (1926), «Борьба за стиль: Опыты по критике и поэтике» (1927) и «Цех пера: Статьи о литературе» (1930).
Изучая индивидуальный стиль писателя, Гроссман уделяет пристальное внимание не только текстам, но и фактам биографии, психологическим особенностям личности, мировоззрению писателя, закономерностям его взаимодействия с социально-политическими обстоятельствами.
Данный сборник статей Гроссмана — первый за многие десятилетия.
Цех пера: Эссеистика - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
И в этом трудном жанре поэзии вдохновительным образцом для Пушкина был Андре Шенье. Приобщившись к его творчеству переводами и подражаниями, он решает воплотить в своих строфах тень поэта.
С кровавой плахи в дни страданий
Сошедшую в могильну сень.
Это интереснейший опыт исторической поэмы, в которой Пушкин сочетает личную драму Шенье с новыми вариациями на его тексты.
В своей небольшой поэме Пушкин в предсмертном монологе приговоренного поэта словно производит обзор всего его творчества, перелагает в свои строфы лучшие места его од и элегий. Здесь снова происходит процесс, уже прослеженный нами на небольших лирических отрывках Пушкина, где вокруг образов и запоминающихся стихов Шенье разворачивалась его самобытная импровизация. Но здесь это сделано в большем масштабе в плане поэмы-элегии, при чем в качестве вдохновляющего материала привлечен не отдельный стих, зазвучавший в памяти, а все творчество А. Шенье.
Поэма открывается любимым мотивом ранней революционной лирики Шенье. «Но лира юного певца — О чем поет? Поет она свободу…» Эта основная тема «Jeu de Paume». Пушкин развивает ее в духе этой оды:
Я славил твой священный гром,
Когда он разметал позорную твердыню
И власти древнюю гордыню
Рассеял пеплом и стыдом.
Я зрел твоих сынов гражданскую отвагу,
Я слышал братский их обет.
Великодушную присягу
И самовластию бестрепетный ответ;
Я зрел, как их могучи волны
Все ниспровергли, увлекли
И пламенный трибун предрек, восторга полный,
Перерождение земли.
Это переложение строф IV–XIV поэмы «Jeu de Paume», где говорится о разрушении Бастилии, о созыве национального собрания, о торжественной присяге депутатов. Тень Мирабо и перенесение праха Руссо и Вольтера в Пантеон упоминается в другой революционной оде Шенье «Sur les Suisses révoltés».
После этого дифирамбического вступления — резкий перелом. От апологии революции его герой переходит к возмущенной характеристике ее позднейшего периода:
О горе! О безумный сон!
Где вольность и закон? Над нами
Единый властвует топор…
Этот перелом имеется и в оде Шенье.
Задолго до открытого возникновения террора Шенье с редким ясновидением предостерегает вождей революции от надвигающихся ужасов ее поздней эпохи (XIV–XXII строфы).
Затем у Пушкина новое обращение к основной теме:
Но ты, священная свобода,
Богиня чистая! Нет, не виновна ты…
Оно соответствует XVIII строфе:
Peuple, la liberté d’un bras réligieux
Garde l’immuable équilibre
De tous les droits humains…
У Пушкина следует отрывок: «Я плахе обречен». Раздумья о предстоящей казни и особенно прощание с друзьями — представляют собой как бы стихотворные маржиналии к стихам Шенье, написанным в тюрьме; через его III ямб проходит тема: «Vivez, amis, vivez en paix» через V; «Au pied de l’échafaud j’essaye encore ma lyre» — стих, который мог дать первый толчок замыслу всей пушкинской элегии; он как бы суммирует ее и просится к ней в эпиграфы.
Здесь же Пушкин называет «Узницу» Шенье, знаменитое стихотворение «Jeune captive», написанное в тюрьме и сообщившее Пушкину эпиграф для его «Андрея Шенье».
Искусным приемом Пушкин обращается к ранней манере Шенье и лишний раз исполняет вариации на его антологические мотивы. Осужденный поэт вспоминает свои юные годы — «и песни, и пиры, и пламенные ночи». Это дает Пушкину возможность провести через свою поэму реминисценции идиллий и ранних элегий Шенье —
безвестной жизни сень
Свободу, и друзей и сладостную лень.
И, наконец, последний переход — высший подъем возмущения питается у Пушкина негодующими строками тюремных ямбов Шенье.
Заключительная строка Пушкина «Плачь, Муза, плачь!» совпадает с последним стихом IV ямба [10] Это совпадение отмечено Юрием Верховским в его очерке «Пушкин и Шенье». Соч. Пушкина, ред. Венгерова. II, 581–584.
.
Самому Пушкину пришлось через несколько лет дать пояснительный комментарий к своей элегии и в официальном порядке написать нечто вроде схолии к ней. Когда в связи с декабрьским бунтом возник политический процесс о распространении запрещенных стихов из «Андрея Шенье», под вымышленным заглавием «14-го декабря», Пушкину пришлось дать объяснительное показание:
«Сии стихи действительно сочинены мною. Они были написаны гораздо прежде последних мятежей и помещены в элегии Андрей Шенье , напечатанной с пропусками в собрании моих стихотворений. Они явно относятся к Французской революции, коей А. Шенье погиб жертвою. Он говорит:
Я славил твой небесный гром,
Когда он разметал позорную твердыню.
Взятие Бастилии, воспетое Андреем Шенье.
Я слышал братский их обет,
Великодушную присягу
И самовластию бестрепетный ответ.
Присяга du jeu de Paume и ответ Мирабо: Allez dire à votre maître и т. д.
И пламенный трибун и проч.
Он же, Мирабо.
Уже в бессмертный Пантеон
Святых изгнанников входили славны тени.
Перенесение тел Вольтера и Руссо в Пантеон.
Мы свергнули царей…
В 1793
Убийцу с палачами
Избрали мы в цари.
Робеспьера и Конвент.
Все сии стихи никак, без явной бессмыслицы, не могут относиться к 14 декабрю» [11] П. Е. Щеголев. Пушкин, 291–292.
.
Это показание, где Пушкин заявляет, что стихи его элегии имеют в виду «взятие Бастилии, воспетое Андреем Шенье», и где несколько ниже он упоминает присягу «Jeu de Paume» подтверждают метод его непосредственной обработки текстов Шенье.
Являясь такой амальгамой переработанных и преображенных фрагментов Шенье, элегия Пушкина целым рядом художественных и метрических приемов передает тон и дух французского поэта. Основной закон композиции пушкинской поэмы замечательно выдержан в стиле лирики Шенье, особенно любившего монологическую форму.
Его знаменитые Iambes написаны в виде личной жалобы или признания, непосредственно обращенного к читателю.
Конструкция пушкинской элегии поражает своей простотой и экономией средств. Он нигде не соблазняется эффектными аксессуарами революционной эпохи, тюремного быта или публичной казни. Вся вещь сосредоточена целиком на образе Шенье и на его творчестве. Достаточно двух слов для изображения самого потрясающего внешнего события. С какой исключительной сжатостью изображен Пушкиным момент гильотинирования:
Вот плаха. Он взошел. Он славу именует…
Плачь. Муза, плачь!
Ни отрубленной головы, ни потоков крови, ни палача, ни кузова гильотины, ни озверелой толпы. В двух строках описания казни Пушкин достигает вершин художественного лаконизма.
И только в предшествующих строках тонким стилистическим приемом пробуждается в читателе тревожное предчувствие. Это прием чрезвычайно удачной аллитерации на «з» и на «к»:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: