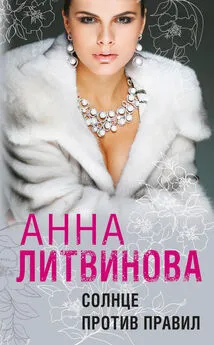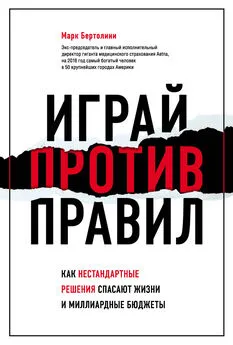Никита Елисеев - Против правил (сборник)
- Название:Против правил (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Геликон»39607b9f-f155-11e2-88f2-002590591dd6
- Год:2014
- Город:СПб
- ISBN:978-5-93682-974-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Никита Елисеев - Против правил (сборник) краткое содержание
В сборнике эссе известного петербургского критика – литературоведческие и киноведческие эссе за последние 20 лет. Своеобразная хроника культурной жизни России и Петербурга, соединённая с остроумными экскурсами в область истории. Наблюдательность, парадоксальность, ироничность – фирменный знак критика. Набоков и Хичкок, Радек, Пастернак и не только они – герои его наблюдений.
Против правил (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Уже и этой точки опоры хватило бы для размаха во весь окоем современного российского ментального пространства. Но есть еще две. Вторая связана с первой. Быков слышит читателя так же хорошо, как он слышит стих. К счастью он не может выкрикнуть, как Мандельштам: «Читателя! Советчика! Врача! На лестнице колючий разговор бы…» Все это Дмитрий Быков имеет в избытке. Без этого всего он бы задохнулся. Ему необходим отклик аудитории. Его стихи на этот отклик рассчитаны. Он не заискивает перед читателем, но уважает его и его (читательское) время. Поэтому он старается и умеет делать интересные стихи. Его стихи закручены так, что тебе интересно следить, куда вывернет автор, начавший так неожиданно? Он строит свои стихи, как… детективы. В завязке – тайна, некое шокирующее утверждение, например, в развязке – разгадка, которая оказывается интереснее, неожиданнее самой тайны (чего в детективах не случается почти никогда, а в стихах Дмитрия Быкова почти всегда): «Он так ее мучит, будто растит жену. Он ладит ее под себя, под свои пороки, привычки, страхи, веснушчатость, рыжину. Муштрует, мытарит, холит, дает уроки». Вот завязка, перед читателем встает вопрос: и что получится из этого психологического эксперимента? А вот что получится: «И все для того, чтоб, отринув соблазн родства, давясь слезами, пройдя километры лезвий, она до него доросла – и переросла. И перешагнула, и дальше пошла железной». Можно ставить точку, финал неожиданный, а если подумать то в неожиданности своей вполне закономерный, но Дмитрий Быков довинчивает ситуацию, выводит ее уже не на житейский и психологический, а бытийный, метафизический уровень: «А он останется – сброшенная броня, пустой сосуд, перевернутая страница. Не так ли и Бог испытывает меня, чтоб сделать себе подобным – и устраниться? <���…> Да все не выходит…»
И вот она – третья точка опоры. О чем бы ни писал Дмитрий Быков, а ежели всмотреться, то пишет он всегда на три темы, обычные для настоящего поэта: Бог, Родина, Женщина – о чем бы он ни писал, он всегда со слабыми, с теми, кто проиграл или проиграет, а потом снова вступит в игру, не рассчитывая на победу. «Прогресс, говоришь? А что такое? Ты думаешь, он – движенье тысяч? Вот и нет. Это тысяче навстречу выходит один безоружный. И сразу становится понятно, что тысяча ничего не стоит, поскольку из них, вооруженных, никто против тысячи не выйдет». Оптимистичные стихи. Излечивающие от депрессии в любых ее видах.
Пейзаж поэзии
(О стихах Льва Лосева)
Лев Лосев – один из лучших поэтических псевдонимов, мне известных. Начать с того, что имя ЛЕВ вписано в фамилию ЛосЕВ. Является, так сказать, ОСью фамилии. Лось – он ведь известно кто, он – Лев северных Лесов. У него – огромная корона; он – добрый, могущественный зверь. И кроме того, лось очень похож на еврея, а от этого наследства Лосев ни в коем случае не отказывался: эта «пренатальная память» всегда была с ним, как «Испанский пейзаж…»
Начну издалека, с того стихотворения, которое я прочёл давным-давно и запомнил с ходу, хотя и не всё, к сожалению, но… начало и финал отпечатались так, словно бы я сам их написал. (В этом тоже особенность поэзии и поэта. Поэт только скажет о себе, о своём мировосприятии, как вдруг находится кто-то, кто радостно выкрикнет: да! Ведь и я так же точно чувствую, только сказать не могу.)
«“Понимаю – ярмо, голодуха, / тыщу лет демократии нет, / но паршивого, русского духа / не терплю”, – говорил мне поэт…» Далее залп отборных, умелых, смешивающих важное и неважное, русофобских ругательств, завершающихся неожиданно, но вполне закономерно – бурлеском, трагикомическим оборотом: «“Вот уж точно – страна негодяев. / И клозета приличного нет”, – / сумасшедший, почти как Чадаев, / так внезапно окончил поэт. / Но прекрасною русскою речью / что-то главное он огибал / и глядел на закат, на заречье, / где архангел с трубой погибал».
Это огибание чего-то важного словами, не-называние важного – особенность настоящей поэзии. Реципиент должен почувствовать это важное и уже сам в силу своего понимания и умения сформулировать. Например: вот именно в такой апокалиптической стране, где ежевечерне погибает «архангел с трубой», где и «клозета приличного нет», где не продохнуть от «этой водочки, этих грибочков», от «стишков и грешков», где ненавистны «наших бардов картонные копья и актёрская их хрипота», именно здесь только и могут появиться «Чадаев» и поэт с «прекрасною русскою речью», отлично знающий, что главное не называют, а огибают, оставляют неназванным, отчего это главное становится убедительнее.
(Поначалу я думал, что поэт – Бродский, а потом обратил внимание на архангела, вспомнил: «В небесах стоит Альтшулер в виде ангела с трубой» и решил, что речь идёт о Леониде Аронзоне. Теперь же я полагаю, что это совершенно всё равно, какой поэт. Просто поэт. Тот, о котором Слуцкий писал свой «Случай».)
«Понимаю…» – выстроено по любимому мной принципу: начавши за упокой, оно завершается во здравие. Громкая площадная ругань обрывается тишиной, молчанием; признание в ненависти становится признанием в чём-то другом, уж не в любви ли? Вот это «главное» – пожалуй, лучше всего «обогнуть речью», не назвать.
По такому же типу выстроено стихотворение Тютчева «14 декабря», в котором вспышкопускатели, вероломные путчисты, развращённые самовластием (надо полагать, не только русским, екатерининским, но и французским, бонапартовским) оказываются героями, рыцарями, мучениками, пытающимися растопить своей скудной кровью вечный полюс. Крайняя плакатная форма этого построения: «Евреи хлеба не сеют…» Бориса Слуцкого.
Возьмём другое стихотворение, что понравилось мне, пожалуй, так же сильно, как и «Понимаю – ярмо, голодуха…». Мне с ходу запомнилась кульминация: «Еле слышно – „учти, коммунисты – предатели…” / шелестит – „марокканцы поставят нас к стенке…” / Мы гуляли, глазели и весело тратили евроденьги». Вообще Лосев принадлежал к тому редкому типу поэтов, что могут политику превратить в поэзию. У Томаса Манна было такое рассуждение, мол, религия и поэзия – область человеческого, перед которой политика исчезает, как туман под лучами солнца, но поэзии не возбраняется заниматься политикой. В этом случае поэзия очеловечит политику и весёлым чудовищем проникнет в самую суть трагического». В лучших стихах Бориса Слуцкого была эта весёлая чудовищность, проникающая в самую суть трагического.
Итак, «Испанский пейзаж с нами» – я был так потрясён этим стихотворением, что не сразу обнаружил аж двойную цитату в названии. Ну да, разумеется, у кого-то «Киров с нами», а с нами Испанский пейзаж, пейзаж после битвы, да не просто битвы, а после – поражения. Для кого-то Киров был надеждой и тем, что останется до победы и до… очеловечивания режима и политики, а для нас – вот этот пейзаж… не то, чтобы надежда и даже вовсе не надежда, а нечто ей гегеншпильное.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
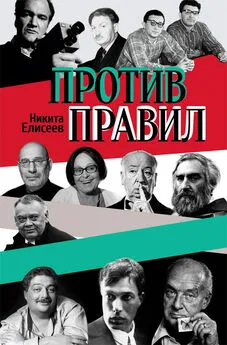

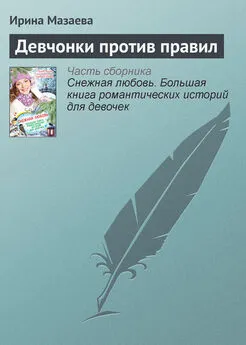

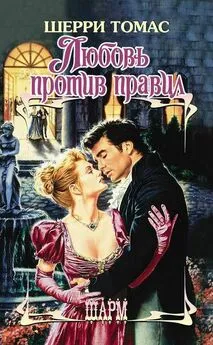
![Никита Елисеев - Блокадные после [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1145010/nikita-eliseev-blokadnye-posle-litres-s-optimizir.webp)