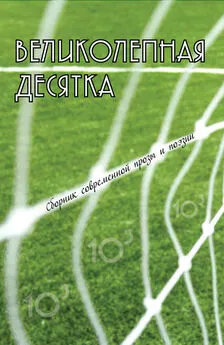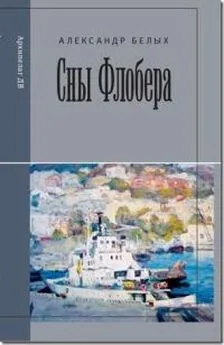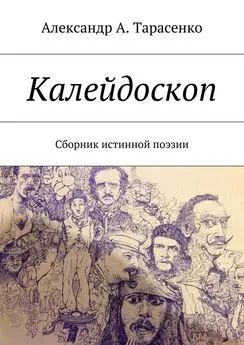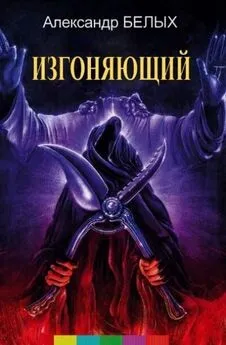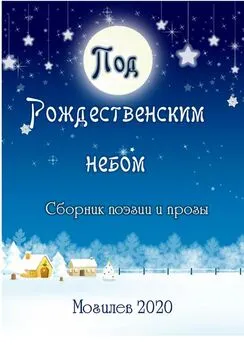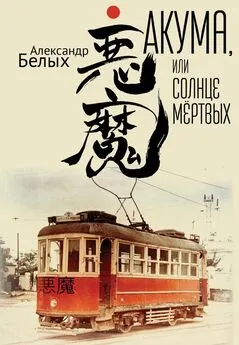Александр Белых - Феноменологический кинематограф. О прозе и поэзии Николая Кононова
- Название:Феноменологический кинематограф. О прозе и поэзии Николая Кононова
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Алетейя»
- Год:2015
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-90670-591-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Белых - Феноменологический кинематограф. О прозе и поэзии Николая Кононова краткое содержание
Эти два имени символически связывают разрывающуюся ткань пограничного бытия русской литературы, оказавшейся в анклавах русского пространства эпохи перемен. Исследуя вещество поэзии и прозы, автор делает попытку обнаружить связь образов с ключевыми идеями и понятиями художественно-философского миросозерцания Николая Кононова в их непрерывном единстве и развитии на протяжении всего творческого пути – от первой поэтической книги «Орешник» (1987) до романа «Фланёр» (2009). Центром повествования А. Белых является роман «Фланёр». Идея времени, обладающая двойным бытием – исчезновения и воскрешения образов возлюбленных – пронизывает и опоясывает весь корпус произведений писателя, откликающихся на образцы европейской литературы.
Феноменологический кинематограф. О прозе и поэзии Николая Кононова - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Один персонаж, патологоанатом, под инициалами В. А., рассказывает Фланёру о своём знакомстве с Андреем Николевым. «Это про меня написано, я ведь Колька, Колька – это я», – восклицает В. А. по поводу неполно цитируемого им стихотворения.
Колю я на балконе сахар,
воспоминаю Кольку и уста.
Да, сахарны. Колю́ не Ко́лю – сахар.
Такой, как он, едва ли один из ста,
теней и света обреченный знахарь
и провозвестник окрыленных воль.
Гол, как сокол, нисходит месяц в дол
и бражничает там, желанный —
далеко колкий Колька, это странно.
1936
Я думаю, что через уста своего персонажа В. А., который может быть как реальным знакомцем Андрея Егунова (Николева), так и мистифицированным, Николай Кононов признаётся не столько в любви к этому поэту, что очевидно, сколько выдаёт один из потайных ключиков к «Фланёру». Безымянный повествователь в романе «Фланёр» – сложносоставная, «удвоенная» фигура, наделённая авторской интонацией. N. – это не столько персонаж, сколько фигура речи, маска, способ повествования. Инструмент, через который извлекаются звуки, авторский логос, преодолевающий социальные и метафизические фобии. Кроме того, N. – это и математический символ, абстракция мышления, наполненная чувственным содержанием авторского присутствия, его личностного сюжета, помещённого в другой исторический контекст, а также в контекст чужой биографии. Как видим, генеалогия персонажа довольно сложная.
В стране советов я живу,
так посоветуйте же мне,
как миновать мне наяву
осуществленное во сне?
Как мне предметы очертить
и знать, что я, а что не я —
плохой путеводитель нить,
бесплотная, как линия.
N. – как «путеводитель», как «бесплотная линия», разделяющая автора и его повествование. Одной рукой Н. Кононов приближает к себе текст, а другой отодвигает. «Сентиментальное» разбавляется «метафизическим скепсисом».
В тот день, когда меня не станет,
ты утром встанешь и умоешься,
в прозрачной комнате удвоишься
среди пейзажа воздуха и стен:
моей души здесь завалилось зданье,
есть лень и свежесть, нет воспоминанья.
Роман о высвобождении души из «чёрной дыры» небытия, почему-то названой Кузминым «японской», то есть из дыры забвения. В этом пафос. «Вся его речь свидетельствовала о другой памяти, о памяти любви с ее суммарными, невыразимыми в обычных словах ощущениями». Идея воспоминания как инструмента воскрешения входит в арсенал многих идей этого романа, среди которых выделяется идея времени, о котором сказано: «Пустое невозделанное время, но оно заизвестковано скорлупой сознания, где, словно в застрявшем лифте, в утомлённых позах переминаются с ноги на ногу, толкутся мысли, слова, обрывки впечатлений… И непонятно, что же со всем этим делать, как превозмочь эту смертную пустоту…» («В разное время», 1991)
В книге «Саратов» у Н. Кононова есть рассказ «Сумма обстоятельств» (1990). Если говорить об истоках идейно-стилистической формулы романа «Фланёр», то они уже найдены в этом раннем рассказе. Всему сборнику «Саратов» предпослан эпиграф из «Пёстрых рассказов» Клавдия Элиана. «Перипатетики” считают, что днем человеческая душа сплетена с телом, прислуживает ему и потому не способна свободно созерцать истину, ночью же освобождается от этого служения и, округло заполняя грудь, становится прозорливее – это причина сновидений».
Если в книге «Саратов» душа, психея, травмированная похабной жизнью его провинциальных персонажей, блуждает в их бредовых сновидениях, растянутых на двадцать лет разложения постсоветского быта, такая соборно-коллективная душа, одна на все его персонажи, то во «Фланёре» душа-странница индивидуальная, единичная, атомарная, исключительная, сохраняющая себя сугубо в эстетическом бытии другого времени. Она пытается выкарабкаться из этой самой «японской чёрной дыры» инобытия всеобщей человеческой катастрофы не силой воли, не экзистенциальным преодолением, не мужеством, а всего лишь созерцанием и воображением. В моём восприятии эти две книги полезно рассматривать в единстве не только потому, что и в той и в другой книге бытописание сосредоточено на Саратове, где ощущается «край бытия, коллапс времени и спазм моей личной истории» («Розарий»).
В этом контексте я бы хотел аристотелевское слово «перипатетики» (от др. – греч. Περιπατέω – прогуливаться, прохаживаться) сопоставить с праздным французским словом «фланёр» («праздношатающийся», «гуляющий», «бродячий»), восходящее, как заметил Алексей Порвин, к бодлеровскому выражению: «Observateur, flaneur, philosophe, appelez-le comme vous voudrez…»– «Наблюдатель, фланёр, философ, называйте как хотите…». Во французской литературе девятнадцатого века, когда фотография только-только стала входить в буржуазный быт, это слово «fläneur» наделяется философическим, «непраздным» смыслом и даже «гастрономическим для глаз» содержанием (О. Бальзак), превращается в «искусство фланирования» (Виктор Форнель). Это слово, восходящее к праздному и щегольскому быту эпохи барокко, любимой Николаем Кононовым, праздному духу которой был верен Оскар Уайльд, в тридцатых годах прошлого столетия оживилось под пером Вальтера Беньямина, заинтригованного жизнью в суетливой городской среде, почитаем его «Московский дневник». Нынче такой типаж можно увидеть с андроидом в руках, снимающим собственное кино, которое отнимает у воображения его вербальную памятливость, уже не способную «слышать зрением»…
2. «Отчего прикосновенье горит огнём попятным»
«Труд зрения» автора превращает роман в «апофеоз подробностей», от которых рябит в глазах, как на мерцающей поверхности лунной воды, несущей в романе сакральный смысл, едва ли не некротический. Эти подвижные подробности отвлекают читательское внимание от «торжественной архитектуры идей» произведения, напоминающего живой строящийся муравейник. Тот, кто бывал в таёжных местах, мог наблюдать эти восхитительные строения в человечески рост. От этого живого строящегося организма, которому уподоблено сооружение великого Гауди, невозможно оторвать глаз. «Зрелище и зрение – апофеоз исключительного моего бытия», – говорит повествователь, созерцая матовый лоск полной луны. «В её свете мы все утопленники – её отражённый вторичный свет так искренне всё заливает, от него невозможно уйти в тень – там слепота, искренняя и абсолютная, и смертное литьё, ещё более текучее, чем вода, спирт, эфир, ртуть». То есть слово, как флогистон, конкурирует в произведении Н. Кононова с перечисленными легковоспламеняющимися веществами.
Именно зрение замедляет время повествования и даже способно замедлить само время. Повествователь приёмом ретардации стремится не столько обрести время, сколько освободиться от него абсолютно, тотально, как это бывало в детстве (узнаём из подтекстовой сноски), когда он прилипал своим зрением к струящемуся из шланга потоку воды, и в какое-то мгновение казалось, что вода «остекленевала». Бывало, что зрением он «примерзал», как примерзает язык на морозе, если лизнуть им дверную ручку. Тем же самым, помнится, упоен Фауст у Гёте, когда призывает мгновение остановиться.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: