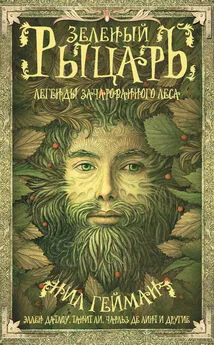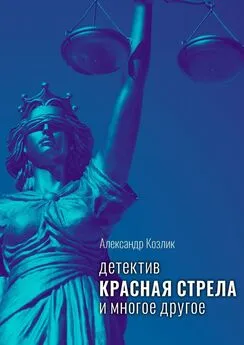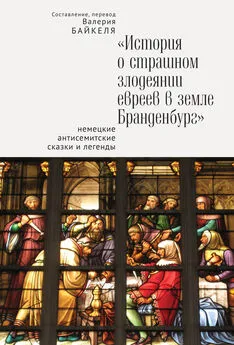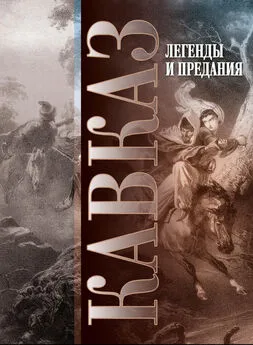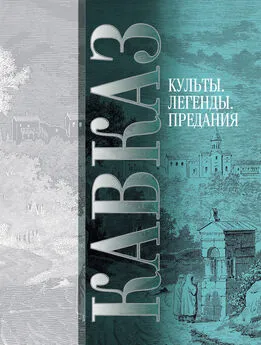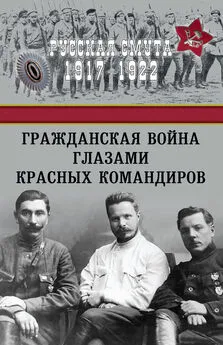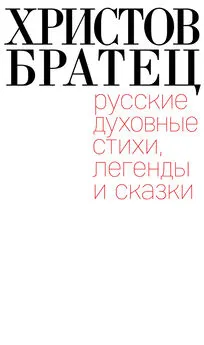Array Сборник - Красная стрела. 85 лет легенде
- Название:Красная стрела. 85 лет легенде
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент АСТ
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-097947-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Array Сборник - Красная стрела. 85 лет легенде краткое содержание
Красная стрела. 85 лет легенде - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В конце концов, пражане не должны перед советскими танками задумываться о том, что интеллигенции в стране, их производящей, несладко живется. Я даже не то чтобы понял, но физически ощутил, что за чувства должны были испытывать чехи, поляки, венгры, а заодно и финны, эстонцы, литовцы, латыши, узбеки, туркмены, башкиры и чуваши к великой России, несущей им защиту и культуру, да и к народу нашему, который “именно заключает в душе своей эту склонность к всемирной отзывчивости и к всепримирению и уже проявил ее во все двухсотлетие с петровской реформы не раз”. В ненависти Кундеры нет и следа национализма, она направлена только на танки оккупантов и марионеточное правительство, ими посаженное. Но танки-то русские и правительство – прорусское.
Меня завораживали сцены сопротивления Праги, особенно описание девушек в мини-юбках, принимающих намеренно откровенные позы, чтобы унизить изголодавшихся русских танкистов. К девушкам в вызывающих позах Кундера все время возвращается, они, сфотографированные Терезой, проходят через весь роман, и в агрессивной сексуальности героинь пражского августа ощутима агрессивная обреченность. Сопротивление сексуальностью – частый мотив, но я не припоминаю такого поворота, как у Кундеры: описанная им сексуальность направлена не на то, чтобы добиться чего-либо конкретного, голову отрубить или выведать что-то, но только на то, чтобы унизить противника его же скотством. “Вот блядь сука сраная ноги расставила, мандой трясет, я щас тебе…” – представить себя на месте танкиста мне было легко, я сам в армии служил, и изощренная месть, состоящая в том, чтобы силу, воплощенную в самце, довести до того, чтобы сила эта, представ во всей своей неприглядности, стала смешной и отвратительной, вторила образу Праги моей фантазии.
Тем временем поезд все время пересекал границы, как будто перебирая приметы всепримиренческого развала. Границ было множество: русско-белорусская, белорусско-латышская, латышско-белорусская, белорусско-украинская, украинско-словацкая… Поезд трясся, за окном ползли сугробы, совы таращились, и на каждой границе сов и их мешки нещадно трясли, переворачивая в купе все вверх дном. Наконец поезд дотрясся до Львова, который возник передо мной как раз в тот момент, когда герой “Невыносимой легкости бытия” пишет статью о царе Эдипе, ни в чем не виноватом, но все же себя слепотой наказавшем, и рассуждает об ответственности. Во Львове поезд стоял долго, более пяти часов, поэтому я со станции поехал в город.
Львов я видел первый раз в жизни. День казался по сравнению с декабрьским петербургским сумраком светлым и длинным, сугробы пропали, было тепло и сыро, не зима, а ранняя весна. Львов был как будто создан для размышлений об ответственности: некогда центр культуры Восточной Европы, он превратился в город на краю СССР, а теперь – на краю Украины. В школе же меня учили, что моя Родина спасла Польшу и Прибалтику от гитлеровских захватчиков и возвратила России исконно русские территории. Что ж, Львов, как Выборг, спасенный от захватчиков финских и тоже возвращенный, производил впечатление города, покинутого своими автохтонными жителями и населенного совсем новой популяцией. Новым жителям все в городе чуждо: церкви, дворцы, улицы – пришельцы кое-как приспособили чужое творение, их в общем-то раздражающее, для своих нужд, но город омертвел. Было пустынно и тихо, сквозь размокшую грязь зеленела трава, и Львов, своим барокко предлагая упражнения в осознании ответственности, в то же время был прелюдией к Праге.
Когда я вошел в поезд, смеркалось. Я потрясся дальше, снова за окнами темень, совы напротив таращатся, свои кули обнимая, я продолжаю Кундерой от всего отгораживаться, и тут, уже в конце романа, вдруг в описании одного из очередных любовных приключений Томаша я натолкнулся на фразу, которая по-русски звучит так: “…он названивал одной студентке театральной школы, на редкость очаровательной девушке, чье тело так ровно загорело где-то на нудистских пляжах Югославии, что казалось, ее там медленно вращал на вертеле необычайно точный механизм”. По-английски “вращал” звучит как rotated , и слово это, означающее не только вращаться, но и чередоваться, ярко вспыхнуло в моем мозгу, осветив то, что в нем лежало смутной грудой, то есть то, зачем я в Прагу и ехал, – пражский маньеризм. В его творениях есть притягательное и странное ощущение отстраненного и холодного вращения, исходящего от наготы мифологических персонажей, как будто рассчитанно и механистично со всех сторон демонстрирующих себя зрителю, постепенно увлекая его в одуряющее эротическое вертиго, постоянное движение, не дающее покоя, заставляющее тебя почувствовать, как из-под ног уходит твердь. Головокружение от созерцания пражских маньеристов возносит тебя на дух захватывающую высоту, в невесомость, ты превращен в нечто, легкое, как пух, но все же воспоминания о собственной тяжести не оставляют тебя, ты помнишь, что в любой момент снова можешь обрести присущий тебе вес, тогда тебя потянет вниз, и грохнешься ты с этой высоты, разбившись в лепешку, как героиня фильма Хичкока.
Слово rotated , вспыхнувшее в мозгу, как нельзя более точно соответствовало рудольфинской Праге. Как раз в тот момент, когда я, внутренне просветленный своим открытием, подскочил на своей полке и уселся, послав вдохновенный взор в пространство, который тут же уткнулся в совиные глаза напротив и угас, мы приехали в Чоп. На украинско-словацкой границе досмотр был самым затянутым и муторным, в купе даже отвинчивали панели на стенках и потолках, долго там шарили и ничего не находили. Наконец досмотр закончился, поезд проехал еще чуть-чуть, остановился уже на словацкой границе, здесь все прошло очень быстро, и, когда мы снова тронулись, я вдруг с удивлением обнаружил, что я в купе остался один – да и во всем вагоне, – и только тут я догадался, что мои попутчики были челночниками, то есть новой нарождающейся отечественной буржуазией, пока еще довольно мрачной и серьезной, как и вообще серьезен любой эмбрион. Вестники свободы после падения Берлинской стены.
Освободившись от кулей и кульков, поезд поехал быстрее и легче, и, возбужденный своим rotated и тем, что я уже за границей и с каждой минутой Прага становится все ближе и ближе, я не мог уснуть. За окнами была чернота, но сугробы пропали, только кой-где валялись лоскутья снежка; пустынный и ободранный вагон был полностью в моем распоряжении, и я бесконечно ходил курить в тамбур, не в силах ни спать, ни бодрствовать.
Возвращаясь в очередной раз из тамбура, в состоянии почти сомнамбулическом, мой сонный разум вдруг как будто на что-то налетел, споткнулся и грохнулся прямо на пол, набив со всего размаха шишку: из противоположного конца коридора на меня стремительно шло яркое красное пятно, контрастировавшее с бесцветностью моего путешествия, как дикий вопль. Кричащее пятно наступало и, приблизившись, оказалось очень красивой китаянкой, одетой в пальто цвета киновари. Красавица стремительно сквозь вагон мчалась, схватив за руку и буквально таща за собой китайского юношу, и экзотичность этой пары, подчеркнутая заурядной нищетой заплеванного вагона, встряхнула меня, как звонкая пощечина. Китаянка была вылитая маньчжурская принцесса Есико Кавасима из фильма Бертолуччи “Последний император” – восточный бриллиант, авантюристка и шпионка, – черты ее лица были резкие и крупные: нос с легкой горбинкой, четко очерченные губы, большие и раскосые глаза. Эта красота была злой и хищной, той китайской красотой, какой бывают красивы именно маньчжуры, китайцы с Севера, в отличие от более округлых и сладких южан. На южанина походил ее спутник, юноша, почти мальчик, лет так семнадцати, и он был по-детски мил, маленький китайчонок – китайские дети самые хорошенькие на всем белом свете. Детскость его подчеркивало то, что Есико, будучи явно ненамного его старше, опекала его с решительностью не то чтобы даже матери, а тигрицы, схватившей зубами за шкирку своего детеныша. Красоте китаянки вторил красный цвет ее пальто – убийственно-открытый красный цвет, какой в природе редко встретишь, разве что на иконах да на картинах Рубенса. Как киноварная ртуть, китаянка была хищной и агрессивной, похожей на золотую рыбку, но не на тех вялых губастых дур, что мокнут в комнатных аквариумах, а на какую-то золотую пиранью.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: