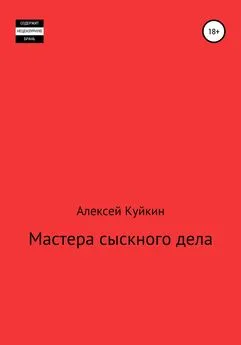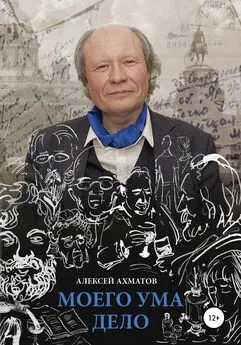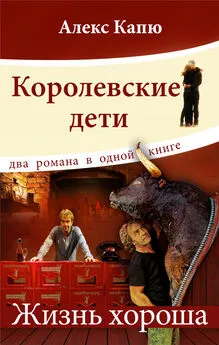Алекс Капю - Мистификатор, шпионка и тот, кто делал бомбу
- Название:Мистификатор, шпионка и тот, кто делал бомбу
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЛитагентТекст527064a0-8b0d-11e2-8df5-002590591ed2
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7516-1328-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алекс Капю - Мистификатор, шпионка и тот, кто делал бомбу краткое содержание
«Мистификатор, шпионка и тот, кто делал бомбу» – увлекательнейший роман современного швейцарского писателя Алекса Капю. Один из героев книги помог американцам сделать атомную бомбу, второй – начинающий художник – отправился со знаменитым Артуром Эвансом на раскопки Кносса и научился ловко воссоздавать старые фрески, что принесло ему немалый доход. А героиня романа, разведчица союзников в фашистской Италии, была расстреляна. Автор удивительным образом связывает судьбы своих героев между собой, украшая повествование множеством достоверных фактов того времени.
Мистификатор, шпионка и тот, кто делал бомбу - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
К тому же реальный мир заводчиков и фабрикантов во многом потерял интерес к физике, ведь их паровые машины, локомотивы и турбины функционировали безупречно. Они знать ничего не хотели о новых исследованиях, которые не обещали практической пользы и своей релятивистской возней разве только грозили поставить под сомнение простую, полезную механику Ньютона. Что же до оторванных от жизни чудаков в высшей школе, то уж для них заводчики и фабриканты тем более не находили применения.
Конечно, Феликса Блоха вполне устраивало, что никто им не интересуется и никто не диктует ему предписаний. Но в начале учебы он бы все же не возражал против известного руководства. Поскольку же на факультете не было никого, с кем можно бы посоветоваться, программу лекций он составил себе по благозвучности названий. И записался к Дебаю на «Квантовую теорию спектров», к Шерреру на «Рентгеновские лучи», к Вейлю на «Философию математики» и по тому же принципу выбрал из специальной литературы первым делом «Строение атома и спектральные линии» мюнхенского профессора Арнольда Зоммерфельда [15].
К Феликсову облегчению, в предисловии профессор писал, что хочет «дать неспециалисту возможность проникнуть в новый мир недр атома» и «в интересах общепонятности старался свести математический аппарат к минимуму», чтобы кратко и без непонятных формул раскрыть «подготовительные физические и химические данные», на которые опирается новая атомная физика. Однако прямо на первой странице Феликс споткнулся о понятия, которые автор полагал известными, он же представления о них не имел. И после первой главы волей-неволей признался себе, что не понимает даже подготовительных данных, так как не владеет необходимыми предварительными знаниями. А когда попытался усвоить эти предварительные знания, выяснилось, что ему и здесь недостает предварительных знаний.
Так, например, уже на первой странице речь шла об электромагнитном поле. Рассчитывая выяснить, что имеется в виду, он пошел в библиотеку и взял «Теорию электричества» Макса Абрахама. Тот в предисловии опять-таки заверял, что при написании книги стремился прежде всего к общепонятности, но уже в первой главе использовал загадочные понятия вроде «корпускулярного излучения» и «теории циклов», и, чтобы в них разобраться, Феликс был вынужден опять идти в библиотеку.
Феликс изо всех сил старался овладеть основами знаний, но уразумел только, что человеческий разум похож на мускул, который при непривычном усилии склонен впадать в паралич и даже при регулярных тренировках действует лишь в ограниченных пределах.
Читая вторую главу, где профессор Зоммерфельд рассматривал «центральные и периферические свойства атома», Феликс едва не капитулировал, а когда в четвертой главе речь пошла о «введении в квантовую теорию», настолько болезненно ощутил нарциссическую обиду своего слабого мозга, что всерьез подумывал сдать книгу в библиотеку и покаянно вернуться к машиностроителям и канализационным крышкам.
Пожалуй, в атомной физике он остался главным образом потому, что не хотел позориться перед отцом. Вдобавок через несколько месяцев он сделал приятное открытие, что даже самые сложные идеи становятся легкопонятными, когда в них разберешься, да и пробелы в знаниях в ходе учебы постепенно уменьшались или хотя бы обретали более-менее обозримую величину. Конечно, он по-прежнему чувствовал себя как белый медведь, плывущий на маленькой льдине знаний по океану невежества; однако со временем появились другие льдины, он мог перескакивать с одной на другую, их число множилось, а расстояния между ними сокращались, и к концу второго семестра несколько льдин соединились в остров пакового льда, где Феликс чувствовал себя уже вполне уверенно.
Кроме того, он познакомился с однокурсниками, с которыми происходило точно так же. Каждый балансировал на персональной, в общем-то случайно возникшей льдине, надеясь в один прекрасный день обнаружить новую научную землю. Одни прикрепляли к кристаллам соли электрические кабели и пытались установить, что происходит там внутри, другие ездили за Рейн, покупали в немецких аптеках радиоактивную зубную пасту «Дорамад» и наносили ее на тончайшую металлическую фольгу, третьи смотрели во Вселенную и представляли себе чудовищные взрывы в недрах звезд.
Когда настала весна, Феликс Блох подружился с двумя немецкими докторантами, Фрицем Лондоном и Вальтером Гейтлером [16], которые приехали в Цюрих как ассистенты Шрёдингера. Оба они были немного постарше Феликса и пытались отследить силы межмолекулярного взаимодействия, нагревая водород и облучая его светом. По выходным он гулял с ними на Хёнггерберге или ходил в походы по Гларнским Альпам. Фриц Лондон и Вальтер Гейтлер глубоко поразили Феликса Блоха своей способностью посреди альпийского пастбища непринужденным тоном составлять дифференциальные и интегральные уравнения и тотчас решать их в уме. Большей частью он шагал следом и пробовал понять, о чем они толкуют.
В последние выходные перед летними каникулами они отправились в поход по кантону Ури, и к ним присоединился докторант-датчанин. На привале, когда они жарили на костре сосиски, датчанин высмеивал устарелую модель атома, предложенную его учителем Нильсом Бором, и вскользь упомянул, что сам осуществил несколько довольно сложных молекулярных расчетов, которые, по-видимому, можно проверить с помощью ультрафиолетовой спектроскопии.
Феликс еще не имел четкого представления о моделях атома и не знал, что следует понимать под молекулярными расчетами и ультрафиолетовой спектроскопией. Однако догадался, что мимо него проплывает превосходная льдина и, пожалуй, не мешало бы взять ее на абордаж. Вот и спросил у датчанина, что это за расчеты и каким образом можно проверить их экспериментально, в ответ датчанин достал из рюкзака экземпляр своей работы. Феликс отложил сосиску в сторону и прочитал работу. Пять страниц тетради в четвертушку листа. Он был далек от того, чтобы осмыслить содержание в целом, но все-таки интуитивно уловил, о чем речь. Феликс Блох догадался, что это задача в самый раз для него – обозримая по величине, но не лишенная значения.
Когда они на почтовом автомобиле возвращались в Цюрих, он набрался храбрости и спросил у датчанина, нельзя ли ему переписать работу и сделать попытку экспериментального доказательства. Датчанин насмешливо покосился на него и спросил, есть ли у него под рукой спектрограф. Увы, нет, ответил Феликс. А датчанин сказал, что так и думал, ведь, насколько ему известно, такого прибора нигде между Римом и Копенгагеном не найдешь.
Следующим утром Феликс отнес эту работу Паулю Шерреру, своему профессору экспериментальной физики. Тот внимательно ее прочитал, удовлетворенно потер подбородок и, возвращая листки, заметил, что для экспериментального доказательства необходим спектрограф. Да, сказал Феликс, это ему известно, как раз тут и заключена трудность. Тогда профессор достал из ящика письменного стола несколько кварцевых призм, прошел к окну и поднес их к солнечному свету – на полу заиграли все цвета радуги. Оба долго молча наблюдали за переливами красок, пока профессор не убрал призмы с солнца и радуга не погасла.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
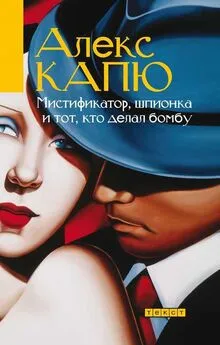

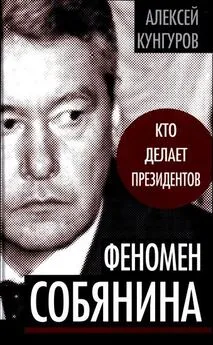
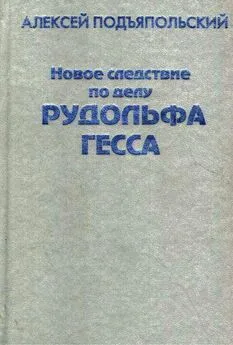
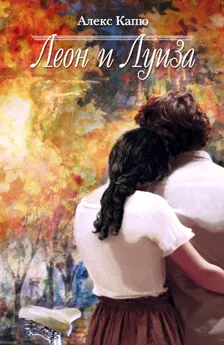
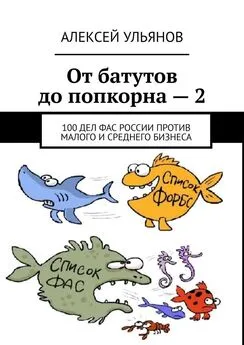
![Джо Алекс - Четвертый с Фринагара. Ад во мне. Дело вкуса. Пропавший Ромни. Охота за сокровищем [Сборник]](/books/1102492/dzho-aleks-chetvertyj-s-frinagara-ad-vo-mne-delo.webp)