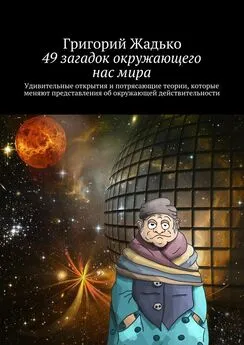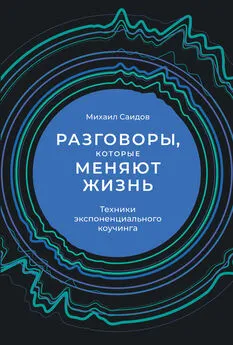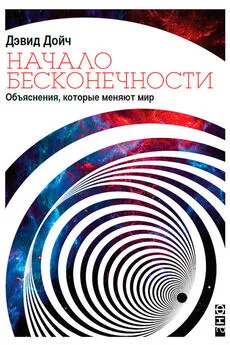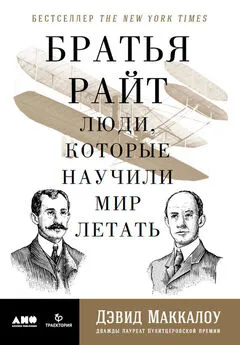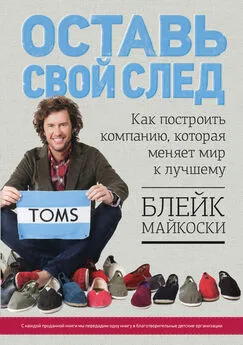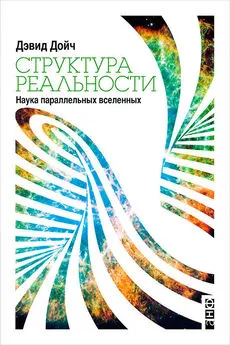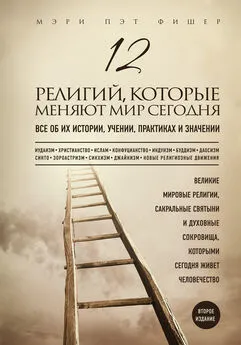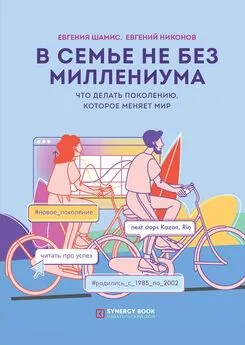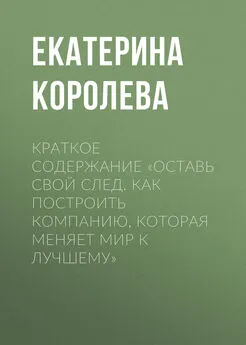Дэвид Дойч - Начало бесконечности. Объяснения, которые меняют мир
- Название:Начало бесконечности. Объяснения, которые меняют мир
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Альпина»
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9614-3541-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дэвид Дойч - Начало бесконечности. Объяснения, которые меняют мир краткое содержание
Начало бесконечности. Объяснения, которые меняют мир - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
И этот шанс у нас есть, потому что мы умеем решать проблемы. А они неизбежны. Мы всегда будем ломать голову над тем, как планировать непознаваемое будущее. И никогда не сможем позволить себе тихо сидеть и надеяться на лучшее. Даже если наша цивилизация выдвинется в космос, чтобы перестраховаться, как настойчиво советуют Рис и Хокинг, мы все равно можем быть уничтожены близким по галактическим меркам гамма-всплеском. Такое случается в тысячи раз реже, чем столкновение с астероидом, но, когда это все-таки случится, мы защититься не сможем без большего объема научных знаний и огромного прироста благосостояния.
Но сначала нам придется пережить следующий ледниковый период, а до этого – другие опасные изменения климата (как природные, так и антропогенные) плюс оружие массового уничтожения, пандемии и все бесчисленное множество непредвиденных опасностей, которые нас будут окружать. Наши политические институты, образ жизни, личные устремления и нравственные принципы – все это формы или воплощения знания, и все это нужно совершенствовать, если цивилизация – и в особенности Просвещение – надеется пережить все те угрозы, которые описываются Рисом, а также, видимо, и многие другие, о которых мы не имеем ни малейшего представления.
Так как же? Как сформировать линии поведения по отношению к неизвестному? Если мы не можем вывести их из наилучших существующих знаний или из догматических эмпирических правил типа слепого оптимизма или пессимизма, откуда нам их выводить ? Как и научные теории, линии поведения нельзя ниоткуда вывести . Это – гипотезы, и выбирать между ними нужно не на основе их происхождения, а в соответствии с тем, насколько разумны они как объяснения: насколько сложно их варьировать.
Подобно отрицанию эмпиризма и идеи о том, что все знание – это «обоснованное истинное убеждение», понимание того, что политические курсы – это гипотезы, подразумевает отрицание бесспорных прежде философских положений. И вновь Поппер стал главным сторонником этого отрицания. Он писал:
«Вопрос об источниках нашего знания… всегда формулировали приблизительно так: “Каковы наилучшие источники нашего знания – наиболее надежные источники, которые не приведут нас к ошибкам, к которым в сомнительных случаях мы можем и должны обращаться как к верховному суду?” Вместо этого я предлагаю считать, что такого идеального источника не существует, как не существует идеального правительства, и что все «источники» способны иногда приводить нас к ошибкам. Поэтому вопрос об источниках нашего знания я предлагаю заменить совершенно иным вопросом: “ Как найти и устранить ошибку?”»
«Знание без авторитета» (Knowledge without Authority, 1960) [57]Вопрос «Что может дать нам надежду на обнаружение и устранение ошибки?» напоминает о замечании Фейнмана сказавшего, что «наука – это приобретенные нами знания о том, как избежать самообмана». И ответ в основе своей одинаков как в плане принятия решений человеком, так и в плане науки: для этого требуется традиция критики, в которой ищутся разумные объяснения, как, например, объяснения того, что пошло не так, что было бы лучше, какой эффект различные линии поведения имели в прошлом и будут иметь в будущем.
Но какая польза от объяснений, если они не позволяют делать предсказания и их нельзя проверить на опыте, как в науке? Это по-настоящему сложный вопрос: что делает возможным прогресс в философии? Как я говорил уже в главе 5, достигается он путем поиска разумных объяснений. Заблуждение о том, что данным и фактам нет законного места в философии, – пережиток эмпиризма. В действительности объективный прогресс возможен и в политике, и в нравственной сфере, и в целом в науке.
Политическая философия традиционно вращается вокруг набора вопросов, которые Поппер называл вопросами типа «Кто должен править?». Кто должен обладать властью? Монархи, аристократы, священники, диктаторы, небольшая группа, «народ» или его избранники? Отсюда возникают производные вопросы, например: «Какое образование должно быть у короля?», «У кого должно быть право представлять граждан при демократии?», «Как обеспечить информированность и ответственность избирателей?».
Поппер указывал на то, что корни этого класса вопросов – в том же заблуждении, что и у определяющего эмпиризм вопроса «Как научные теории выводятся из чувственных данных?». Ищется система, которая выводит или обосновывает правильный выбор лидера или правительства на базе существующих данных, таких как унаследованные права, мнение большинства, полученное кандидатом образование и так далее. Такое же заблуждение лежит в основе слепого оптимизма и пессимизма: в обоих случаях предполагается, что прогресс должен совершаться путем применения к существующим знаниям простого правила, с тем чтобы установить, какие будущие возможности нужно игнорировать, а на какие – опираться. Индукция, инструментализм и даже ламаркизм – все они совершают одну и ту же ошибку: ожидают, что прогресс обойдется без объяснений . Они рассчитывают, что знание будет создаваться в приказном порядке и почти без ошибок, а не в процессе варьирования и отбора, который порождает постоянный поток ошибок – и исправляет их.
Защитники наследственной монархии сомневаются, что какой-нибудь метод выбора лидера посредством рационального мышления и обсуждения может быть лучше, чем однажды заданный механический критерий. Это – принцип предосторожности в действии, со свойственными ему парадоксами. Например, всякий раз, когда претенденты на трон утверждали, что их наследственные права сильнее, чем у теперешнего правителя, фактически они ссылались на принцип предосторожности как оправдание внезапного, насильственного и непредсказуемого изменения, другими словами, как обоснование слепого оптимизма. То же было верно и для случаев, когда монархи сами благоволили радикальным изменениям. Стоит вспомнить также и утопистов-революционеров, которые обычно добиваются только разрушения и стагнации. Хотя они и являются слепыми оптимистами, как утопистов их определяет пессимизм в отношении того, что предполагаемая ими утопия или жестокие методы ее достижения и защиты хоть когда-то в принципе могут быть превзойдены. Вдобавок они являются революционерами в первую очередь потому, что относятся с пессимизмом к возможности убедить многих других в окончательной истине, которую, как им кажется, они знают.
Идеи имеют последствия, и подход к политической философии, выражаемый вопросом «Кто должен править?», – это не просто ошибка научного анализа, но часть практически всех плохих политических доктрин в истории. Если рассматривать политический процесс как локомотив для продвижения к власти подходящих правителей, то он оправдывает насилие. Ведь пока эта правильная система не начала действовать, ни один правитель не является законным; но как только начнет и назначенные ею правители окажутся у руля, находиться в оппозиции к ним будет означать противостоять тому, что правильно. Тогда возникает проблема, как противодействовать тем, кто выступает против правителей или их стратегий. Согласно той же логике, все, кто думает, что текущие правители или стратегии – плохие, должны сделать вывод, что на вопрос «Кто должен править?» был дан неправильный ответ, а значит и власть таких правителей незаконна, а противостоять ей – законно, и, если потребуется, даже силой. Таким образом, сам вопрос «Кто должен править?» приводит к необходимости жестоких, авторитарных ответов, и зачастую они и даются. В результате стоящие у власти доходят до тирании, укрепляется позиция плохих правителей и стратегий, а оппонентов это ведет к разрушительному насилию и революции.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: