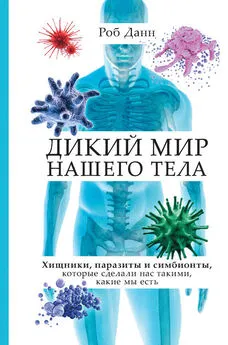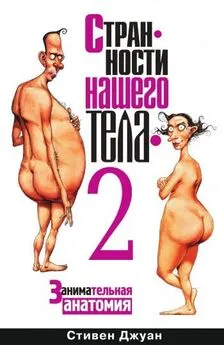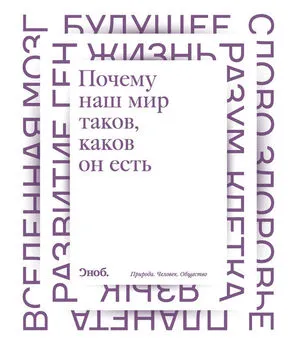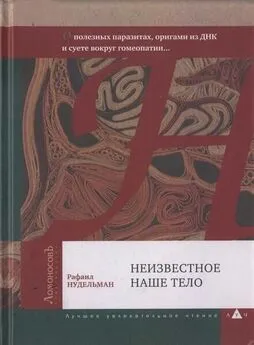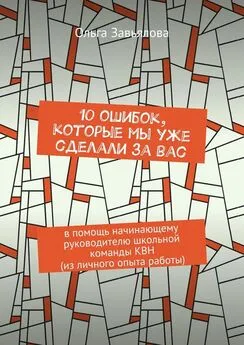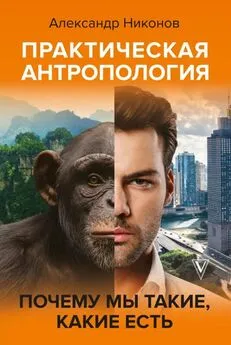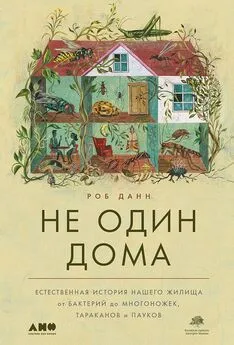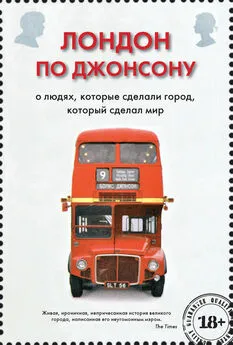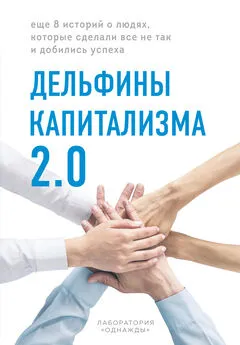Роб Данн - Дикий мир нашего тела. Хищники, паразиты и симбионты, которые сделали нас такими, какие мы есть
- Название:Дикий мир нашего тела. Хищники, паразиты и симбионты, которые сделали нас такими, какие мы есть
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «АСТ»
- Год:2014
- Город:М.
- ISBN:978-5-17-079748-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Роб Данн - Дикий мир нашего тела. Хищники, паразиты и симбионты, которые сделали нас такими, какие мы есть краткое содержание
Дикий мир нашего тела. Хищники, паразиты и симбионты, которые сделали нас такими, какие мы есть - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Бинфорд считает, что как минимум некоторые из наших предков в обеих Америках (так же как и во всем мире) обратились к земледелию от отчаяния. Он полагает, что, когда плотность населения сильно увеличилась, многие люди стали умирать от голода и истощения. Возможно, лишь очень немногим семействам удавалось вырастить что-то в приемлемом количестве и достаточно быстро для того, чтобы выжить. По мнению Бинфорда, переход к земледелию иногда или даже в большинстве случаев был жестом отчаяния. Из этого жеста родились общества, которые не изобрели земледелие, а были подчинены ему. Первые урожаи, скорее всего, были настолько скудны, что могли поддержать лишь немногих, да и то буквально на грани голодной смерти. Добывать пропитание с помощью земледелия было трудно и утомительно. Преимуществом пользовались те люди, чьи гены позволяли лучше переваривать и усваивать новую еду. Бинфорд думает, что культура первобытных людей и, возможно – это только предположение! – их гены совершили земледельческую революцию. Человеческие общины стали оседлыми, а питание людей резко ухудшилось. В земледелии Бинфорд видит проклятие человечества. К моменту изобретения письменности люди окончательно и бесповоротно приняли новый образ жизни. Если это так, то становятся понятны последствия, с которыми мы сталкиваемся в нашей современной жизни. Среди таких последствий и то, что урожай надо получать регулярно и с большими трудностями. Стабильность урожая позволила некоторым счастливчикам сильно размножиться, стать большими народами и густо заселить множество местностей. Но если когда-то их предки зависели от тысяч разных видов растений-симбионтов, то теперь люди стали зависеть всего от нескольких, а в некоторых местах – и от одного-единственного вида. Они (следовательно, и мы, как их потомки) стали тесно связаны не с производством еды вообще, а с определенными видами культурных растений. В бассейне Амазонки такими культурами стали арахис и маниока ( Cassava manihot ). Эта драма разыгрывалась множество раз по всему миру с разными растениями, но актеры и роли зловещего спектакля по Бинфорду оставались прежними.
Взгляды Бинфорда на сельское хозяйство как на возрождение после апокалипсиса годами подвергается ожесточенной критике со стороны других антропологов. Эти взгляды противоречат истории, которую мы давно и не без успеха себе рассказываем, истории о том, что мы являемся успешными новаторами и хозяевами своей судьбы. Со временем Бинфорд занялся другими вещами и задумался над другими проблемами. Сам он был уверен, что имел основания для выдвижения своей теории, но черепки глиняной посуды и выбеленные временем кости – недостаточное доказательство, и идеи Бинфорда так и остались нетронутой целиной.
Для того чтобы убедить остальных в своей правоте, последователям Бинфорда были нужны неопровержимые доказательства, а именно ген, указывающий на то, что произошло с человеком на заре сельского хозяйства и на то, как мы с тех пор изменились. И такой ген был обнаружен – причем даже не один, а несколько. Они доказывают, как важно было для нашего выживания приручение животных и окультуривание растений. Наличие этих генов ясно указало на то, о чем Бинфорд упоминал лишь косвенно, – на одомашнивание человека.
Эта история начинается с тура ( Bos primigenius ), предка современных домашних коров. Туры появились на просторах Северной Африки и Южной Азии в то время, когда в этих областях лежали огромные естественные пастбища, а граница зоны тропических лесов отступила к экватору. Питались эти гигантские животные произраставшими в изобилии новыми видами трав. Туры были лишь одним из видов схожих с коровами животных, которых было тогда великое множество – например, бизоны ( Bison bison ), бантенг ( Bos javanicus ) и другие. Но туры попали в число избранных. Взрослые особи достигали шести футов в холке, обликом они напоминали коров, но по размерам приближались к слонам. Они проходили по лугам, уничтожая траву, как тли. Крупные зубы были приспособлены для того, чтобы срезать траву у самого корня, а потом тщательно ее перетирать. В желудках этих животных бурлила жизнь в виде бактерий и простейших, помогавших переваривать пищу. Без этих симбионтов туры не смогли бы выжить.
На обширных травянистых пастбищах туры благоденствовали. Но насколько эти зеленые побеги были полезны и питательны для туров, настолько же бесполезными были они для людей. Человеческие существа так и не научились есть траву. Мы можем ее пережевать и проглотить, но переварить целлюлозу и лигнин (основные составляющие вещества травы) нашему желудочно-кишечному тракту не под силу. Нас могут насытить только семена или зерна, и вначале, оглядывая безбрежные зеленые просторы, наши предки чувствовали себя как опаленные солнцем моряки среди бескрайнего моря – промокшие насквозь, но лишенные питья, окруженные пищей и умирающие от голода. Но любую пищу нужно сначала попробовать, а потом уж отказываться от нее. Наши предки набили рты травой, тщательно ее пережевали, проглотили и принялись ждать. Увы, мы потерпели поражение на том поле, где выиграли туры.
Впрочем, успех, как и поражение, имеет свои границы и свои переломные моменты. Туры постепенно заполонили все луга, дошли до границ лесов и остановились. Но и в своих естественных пределах животные продолжали ощущать себя победителями. Как-то раз на узкой тропинке туры повстречались с людьми. Вскоре была заключена сделка. В реальной истории искушения и грехопадения запретным плодом было вовсе не яблоко, а заросшее шерстью вымя самки тура.
Вначале отношения между людьми и турами были неуклюжими и несмелыми, как у двух подростков, впервые пытающихся расстегнуть друг на друге одежду. Не обошлось без неловкости и неизбежных шероховатостей. Доение с самого начала было непростым ремеслом. Даже сегодня требуются незаурядные усилия для того, чтобы «убедить» корову позволить себя подоить. Вот что пишет Джульет Клаттон-Брок в своей книге по естественной истории домашних животных: «Корова должна быть спокойна и хорошо знакома с дояркой. Неплохо, если рядом будет стоять теленок или существо, которое корова воспринимает как теленка. Часто необходима стимуляция гениталий коровы, чтобы спровоцировать секрецию молока» [70]. Нечего сказать, удобств маловато. Но от первого человека, залезшего под корову, чтобы ее подоить, произошла большая часть будущего человечества.
Относительно деталей истории такого начинания, как доение коров, существует множество предположений при полном отсутствии достоверного знания – как и относительно зарождения сельского хозяйства вообще. Многие археологи и антропологи считают, что такие события в истории одомашнивания и окультуривания – неважно, касается ли это коров или пшеницы – могли произойти на периферии успешных обществ. Эти ученые принимают историю так, как она изложена в популярных учебниках. Одомашнивание тура явилось еще одним свидетельством нашей тяги к новшествам и покорению природы, а также послужило новым доказательством раннего зарождения науки и технологии. Действительно, оглядываясь назад, можно сказать, что наша способность укрощать диких животных кажется просто магической. Сначала мы приручили коров, а потом лошадей, коз, кошек, а заодно и собак. Мы делали это поколение за поколением, не кнутом, так пряником. Творя подобные превращения, легко задрать нос и вообразить себя богом. Но если присмотреться внимательнее, то выяснится, что изменились не только туры. Они изменили и нас, хотя никто этого не замечал вплоть до самого недавнего времени. Сами туры к этому совершенно не стремились, но под влиянием равнодушной и слепой эволюции они в итоге поступили так, словно осознанно хотели приспособиться к нам, а нас приспособить к себе. Даже Ли Бинфорд, полагавший, что сельское хозяйство стало результатом стремления к выживанию, не мог в полной мере представить себе, насколько тяжелы были условия существования человека и как велика их роль в становлении современных людей.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: