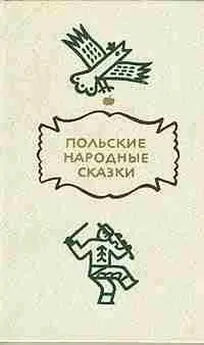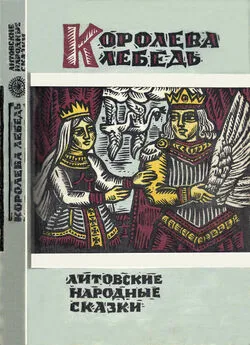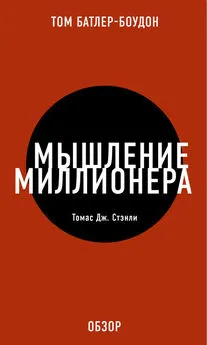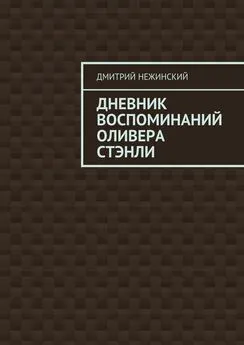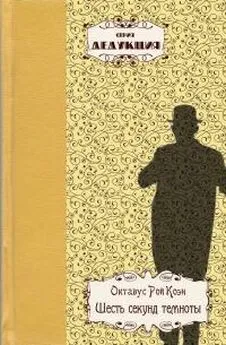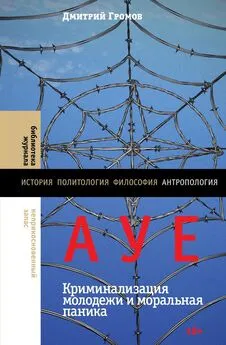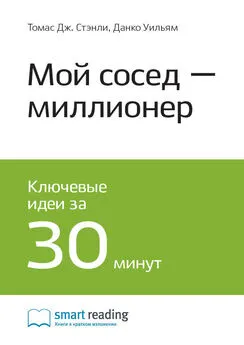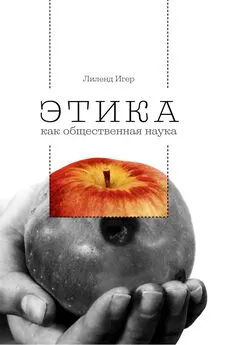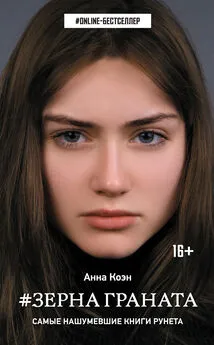Стэнли Коэн - Народные дьяволы и моральная паника. Создание модов и рокеров
- Название:Народные дьяволы и моральная паника. Создание модов и рокеров
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2022
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7598-2429-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Стэнли Коэн - Народные дьяволы и моральная паника. Создание модов и рокеров краткое содержание
Книга адресована культурологам, социологам, исследователям медиа, социальным психологам, но будет интересна и широкому кругу читателей.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
Народные дьяволы и моральная паника. Создание модов и рокеров - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Пресса правого толка, в особенности Daily Mail и Daily Telegraph, утверждавшая, что она говорит от лица всего британского общества, напрямую помогала полиции. Эти газеты с поразительной точностью применяли методы, которые можно было бы внести в методичку под названием «Как предотвратить моральную панику». Представление об «институционализированном расизме» было разоблачено как бессмысленное, гиперболизированное и чересчур огульное; сам термин мог вызвать недовольство среди простых людей (теория стигматизации и амплификации девиации); он очерняет всю полицию из-за каких-то нескольких человек, заслуживающих порицания; британцы – толерантный народ, они маргинализировали ультраправых и позволили интегрироваться расовым меньшинствам. Доклад, заявляла Daily Telegraph, вполне мог происходить из «ультралевого лагеря», а некоторые из его выводов «граничат с безумием». Макферсон (охотник на ведьм, карающий за мысленные преступления) был «полезным придурком», которому промыло мозги «лобби по вопросу межрасовых отношений» ( Sunday Telegraph , 21 и 28 февраля 1999 года; Daily Telegraph , 26 февраля 1999 года).
В конечном счете делу Лоуренса недостало трех компонентов, необходимых для успешной моральной паники. Во-первых, не было подходящего врага, легкой мишени, которую просто обвинить и у которой нет достаточной власти или, еще лучше, даже нет доступа к полям сражений культурной политики. Это явно не британская полиция. Во-вторых, не было подходящей жертвы, с которой любой мог бы себя идентифицировать, которой однажды мог бы стать кто угодно. Это явно не чернокожие подростки из бедных районов. В-третьих, не было консенсуса в том, что осуждаемые убеждения или действия являются не отдельными сущностями («дело не только в этом»), а неотъемлемой частью общественной жизни или что они могут (и будут) происходить, если только «что-нибудь не предпринять». Очевидно, что не будь институционализированного расизма в полиции, его не было бы и в обществе в целом.
Фильм 1956 года «Школьные джунгли» долгое время служил в Британии и США ярким образом зловещей жестокости школ в бедных районах. Насилие понимается как постоянный и обыденный фон: ученики друг против друга (травля, опасные агрессивные игры, демонстрация оружия); учителя против учеников (будь то формальные телесные наказания или непосредственно гнев и самозащита).
Эпизодически выплескивается возмущение по поводу насилия в школах и связанных с ним проблем – прогулов, массового исключения посредством перевода в специальные классы или учреждения, а с недавнего времени – и продажи наркотиков у входа в школу. Для полноценной моральной паники, однако, требуется исключительный или чрезвычайно драматичный случай. Извечные ритуалы травли в классе и на игровой площадке (в кои-то веки и девочки получают заслуженную долю внимания), как правило, подвергаются нормализации до тех пор, пока жертва не получит серьезную физическую травму или не покончит жизнь самоубийством.
Среди недавних примеров – череда массовых убийств и стрельба в школах. Первые картинки массовой стрельбы – из США середины 1990-х годов – были довольно непривычны: полиция фотографирует школьную территорию, парамедики стремительно увозят раненых, родители задыхаются от ужаса, дети обнимаются; наконец, цветы и записки у школьных ворот. В конце 1990-х, когда такие события были все еще редки, каждый новый случай описывался как «очень привычная история». Переход к риторике моральной паники зависит не столько от числа случаев, сколько от когнитивного сдвига от «как такое могло произойти именно там?» к «это могло произойти где угодно». По крайней мере в США такой сдвиг ознаменовался бойней в «Колумбайне».
20 апреля 1999 года двое учеников, одетых в черное (одному из них семнадцать, другому только исполнилось восемнадцать), вошли в школу «Колумбайн» (1800 учеников) в тихом городке Литлтон, штат Колорадо. У них было два дробовика, пистолет и карабин. Они начали стрельбу – сначала по знакомым школьникам, занимавшимся физкультурой, затем убили учителя и двенадцать учеников и застрелились сами. Как это могло произойти? Журнал Time задался вопросом: «Чудовища по соседству: что заставило их так поступить?» (3 мая 1999 года). Заголовки британских газет (архетипические распространители моральной паники) предложили целый ряд объяснений. 22 апреля газета Daily Mail избрала идеологическое объяснение: «Ученики Гитлера». The Independent предпочла психопатологию: «Неудачники, убивающие за тычки», как и Sunday Times (25 апреля): «Кровожадная месть неудачников в плащах». The Guardian обошла проблему мотивации, пойдя умеренно-либеральным путем: «Резня, ставящая под вопрос роман Америки с оружием» (22 апреля).
Торопливость в поисках причинно-следственной связи – или по меньшей мере языка осмысления – обнаруживается во всех морально-панических текстах. Если «Колумбайн» в самом деле, по словам президента Клинтона, «пронзил душу Америки», то мы должны выяснить, почему это событие произошло и как предотвратить его повторение где-либо еще. Более того, если оно случилось в таком месте, как «Колумбайн» (а большинство массовых убийств в школах действительно происходят в самых обычных местах), то оно вполне может произойти где угодно.
Когда разворачиваются подобные истории, для комментариев приглашаются эксперты вроде социологов, психологов и криминологов, которые поставляют каузальный нарратив. Их дежурный дебютный ход – «посмотреть на вещи в перспективе» – обычно не очень помогает: «Школа – все еще наиболее безопасное место для детей; гораздо больше погибает дома, чем в классе».
Моральная паника по поводу психоактивных веществ удивительно последовательна на протяжении уже около сотни лет: злой дилер и уязвимый потребитель; скользкий путь от «мягких» к «сильным» наркотикам; логика запрета. В список просто добавляются новые вещества: героин, кокаин, марихуана, затем наркотики шестидесятых – амфетамины (излюбленные таблетки модов) и ЛСД. Затем еще ряд веществ: дизайнерские наркотики, фенциклидин (PCP), синтетические наркотики, экстази, летучие растворители, крэк; и новые ассоциации – эйсид-хаус, рейвы, клубная культура, супермодели в стиле «героиновый шик».
В Британии Ли Беттс, вслед за Джеймсом Балджером, стала еще одним мелодраматическим примером моральной паники вокруг трагической гибели одного человека. 13 ноября 1995 года восемнадцатилетняя Ли Беттс потеряла сознание вскоре после того, как приняла таблетку экстази в одном из лондонских ночных клубов; она была доставлена в больницу и впала в кому. На следующий день – по не совсем понятным причинам – появились панические заголовки на тему страданий ее родителей; о злобных торговцах отравой; настойчиво повторяющееся послание «на ее месте мог быть ваш ребенок». Ли умерла через два дня. Ее родители стали регулярно выступать в СМИ, предупреждая об опасности экстази. Они мгновенно стали экспертами и моральными компасами – любое несогласие свидетельствовало бы о неуважении к их горю. Особый вес предупреждениям придавала респектабельность семьи Ли: отец – бывший полицейский, мать работала наркологом. Это означало, как объясняла Daily Express, что наркотики оказались «гнилью в сердце средней Англии». Ли была «девушкой из соседнего дома».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: