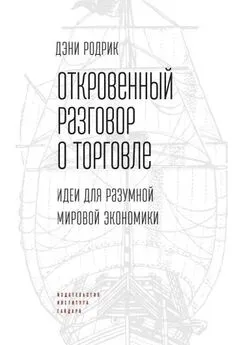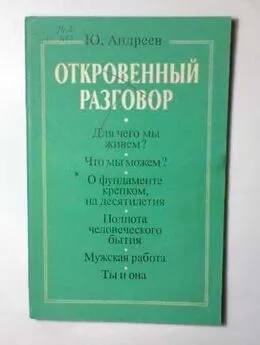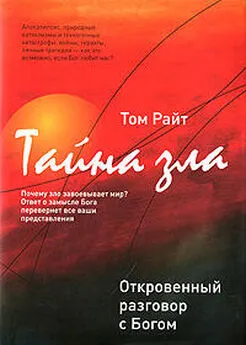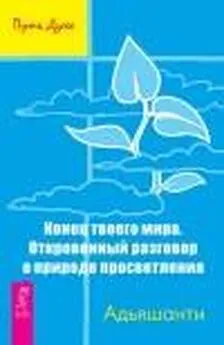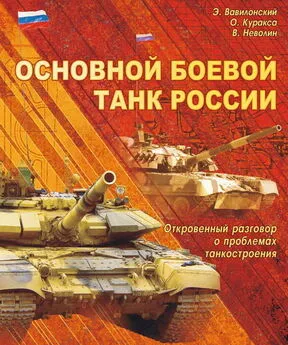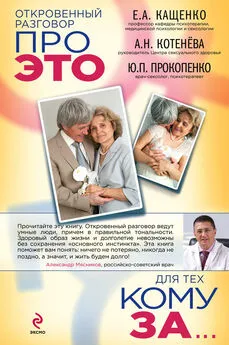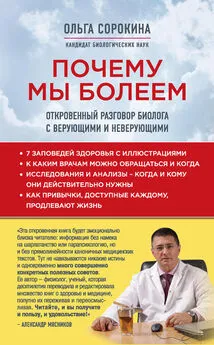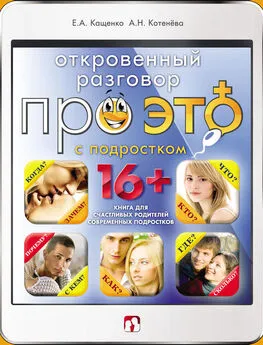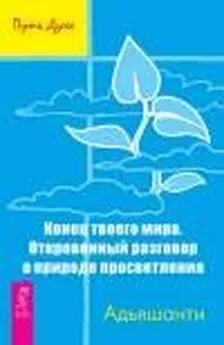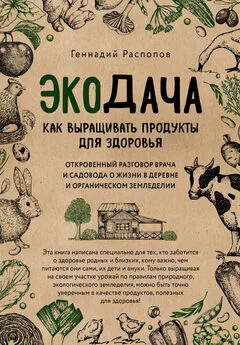Дэни Родрик - Откровенный разговор о торговле. Идеи для разумной мировой экономики
- Название:Откровенный разговор о торговле. Идеи для разумной мировой экономики
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-93255-560-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дэни Родрик - Откровенный разговор о торговле. Идеи для разумной мировой экономики краткое содержание
Умело маневрируя в противоречиях между глобализацией, национальным суверенитетом и демократией, «Откровенный разговор о торговле» представляет читателю бесценные размышления о сегодняшней мировой экономике и связанных с ней проблемных ситуациях, а также схематичное видение будущего в тот решающий момент, когда мы в этом видении более всего нуждаемся.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
Откровенный разговор о торговле. Идеи для разумной мировой экономики - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Конструкция институтов формируется необходимостью принципиального выбора: с одной стороны, деловые связи и неоднородность предпочтений продвигают систему правления вниз; с другой стороны, масштаб и разнообразие (scope) выгод рыночной интеграции продвигают систему правления вверх. Краевое решение редко бывает оптимальным. Промежуточный результат (мир, раздробленный на разнообразные политические единицы) – лучшее из того, чего мы можем достичь.
Наша неспособность усвоить выводы из этого простого соображения заводит нас в тупик. Мы продвигаем рынки туда, где они не справляются. Мы устанавливаем глобальные правила, которые пренебрегают базовым разнообразием потребностей и предпочтений. Мы принижаем национальное государство без компенсирующих улучшений системы правления в других местах. Эта неспособность составляет самую суть не излеченных болезней глобализации, а также ухудшения здоровья наших демократий.
Кому нужно национальное государство? Всем нам.
Глава 3
Испытания для Европы
ЕВРОЗОНА была беспрецедентным экспериментом. Ее члены пытались создать единый рынок – товаров, услуг и денег – при сохранении политических полномочий за составляющими его национальными единицами. Думали, что будет один рынок при большом числе политических единиц.
Ближайшую историческую параллель дает золотой стандарт. При золотом стандарте страны фактически подчиняют свою экономическую политику некоему фиксированному паритету относительно золота и требованиям свободы движения капитала. Денежно-кредитная политика состояла в обеспечении неизменности этого паритета. Поскольку не было представления об антициклической налогово-бюджетной политике и о социальном государстве, отказ от самостоятельной политики, которую подразумевали эти механизмы, был связан с незначительными политическими издержками. Или так казалось в то время. Золотой стандарт, начиная с Великобритании в 1931 г., в конечном итоге потерпел крах именно потому, что высокие процентные ставки, необходимые для поддержания золотого паритета, стали политически недопустимыми по причине уровня безработицы в данной стране.
Послевоенные механизмы, которые были возведены на пепелище золотого стандарта, сознательно предназначались для того, чтобы содействовать регулированию экономики национальными политическими властями. Джон Мейнард Кейнс внес выдающийся вклад в сохранение капитализма. Он осознал, что капитализм нуждается в национальном экономическом регулировании. Капитализм работал в каждой стране по отдельности, а экономические взаимодействия между странами приходилось регулировать, чтобы избежать значительных посягательств на внутренние социальные и политические договоренности.
Проект создания единого европейского рынка и (причем даже в большей степени) единой валюты бросал вызов данной концепции. Стоит рассмотреть те возможные трактовки, при которых такой прыжок в опасную зону мог иметь смысл.
Одна теория, которой, возможно, наиболее строго придерживаются консервативные экономисты, отвергла кейнсианскую точку зрения и вернула «саморегулирующийся рынок» на центральную сцену экономической политики. При таком мировосприятии видимые нами проявления неудовлетворительной работы рынков (такие, как циклы финансовых и макроэкономических бумов и спадов, неравенство, низкий рост экономики) были результатом не провалов рынка, а чрезмерного государственного вмешательства (в первую очередь). Устраните «риск недобросовестного поведения» 60 60 «Риск недобросовестного поведения» – распространенный перевод английского термина moral hazard , который обозначает изменение стимулов и поведения одной из сторон сделки после ее заключения. На страховом рынке проявляется как снижение усилий застрахованного участника, направленных на предотвращение потерь. Имеются и другие варианты перевода того же термина: «моральный риск», «оппортунистическое поведение», «постконтрактный оппортунизм», «риск безответственности» и т. п.– Прим. пер.
на финансовых рынках, организованные рынки труда, противоциклическую налогово-бюджетную политику, высокие налоги и социальное государство – и все указанные проблемы исчезнут.
Эта «нирвана» свободного рынка давала мало пользы экономическому регулированию (economic governance) на любом уровне – национальном или европейском. Единые рынок и валюта заставят правительства играть надлежащую роль, что значило – почти ничего не делать. Наднациональные политические институты в лучшем случае были забавой, а в худшем были вредны.
Вторая теория состояла в том, что в Европе в конце концов возникнут «квазифедеральные» политические институты, которые превратят ее демократические механизмы в наднациональные. Да, единые рынок и валюта ранее создали дисбаланс между сферой действия рынков и сферой действия политических институтов. Но это явление временное. Когда-нибудь институциональные несоответствия будут восполнены и в Европе возникнет собственное общеевропейское политическое пространство. Не только банковское дело и финансы – налогово-бюджетная и социальная политика также обретут масштаб ЕС.
В этом видении рисовалась значительная степень схождения, или конвергенции, моделей общественного устройства, существующих в разных странах Евросоюза. Различия налоговых режимов, механизмов трудового рынка и схем социального страхования предстояло сузить. В ином случае было бы трудно поместить их под общий политический зонтик и финансировать из общего, по большей части финансового, котелка. Британцы с их ощущением собственной неповторимости хорошо понимали это. Именно поэтому они всегда добивались узкого экономического союза и сопротивлялись всему, что попахивало союзом политическим.
Ни одну из этих двух теорий – ни минималистскую, ни федералистскую – нельзя было слишком открыто излагать. Подобный шаг вызвал бы поток критики и возражений. Экономическая модель минимализма мало кого привлекала за пределами узких групп экономистов. А модель федерализма столкнулась бы с крайне разными взглядами на политическое будущее союза даже среди проевропейских элит. Эти противоположные (но по крайней мере внутренне согласованные) картины мира нельзя было даже широко обсуждать в приличном обществе. Сам этот факт должен был бы сообщить нам, что ни одна из этих теорий, по сути, не предлагала практического решения проблемы дисбаланса институтов в еврозоне. Но отсутствие общественного обсуждения и дискуссии означало, что явного отказа от них не произойдет. Итак, оба обоснования происходящего продолжали существование на заднем плане, обеспечивая своим приверженцам некое успокоение насчет жизнеспособности механизмов Евросоюза.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: