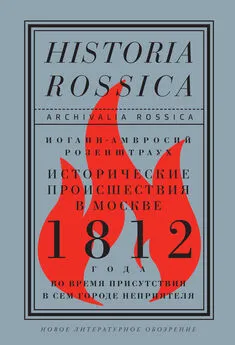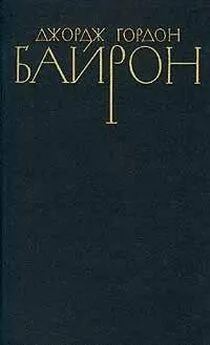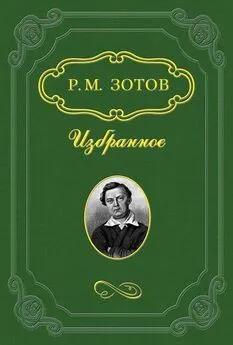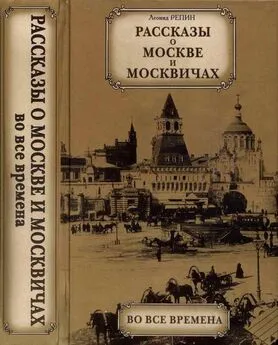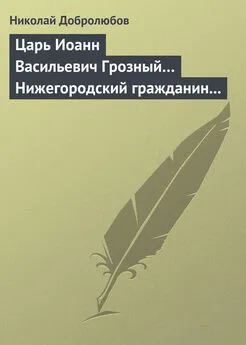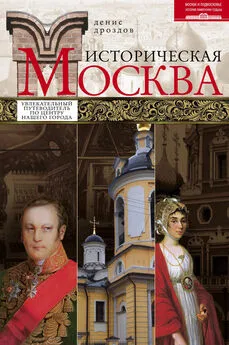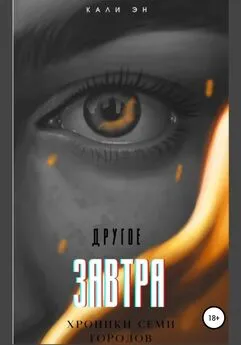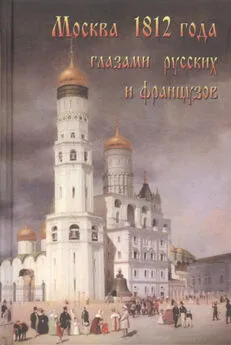Иоганн-Амвросий Розенштраух - Исторические происшествия в Москве 1812 года во время присутствия в сем городе неприятеля
- Название:Исторические происшествия в Москве 1812 года во время присутствия в сем городе неприятеля
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «НЛО»f0e10de7-81db-11e4-b821-0025905a0812
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0400-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иоганн-Амвросий Розенштраух - Исторические происшествия в Москве 1812 года во время присутствия в сем городе неприятеля краткое содержание
Иоганн-Амвросий Розенштраух (1768–1835) – немецкий иммигрант, владевший модным магазином на Кузнецком мосту, – стал свидетелем оккупации Москвы Наполеоном. Его памятная записка об этих событиях, до сих пор неизвестная историкам, публикуется впервые. Она рассказывает драматическую историю об ужасах войны, жестокостях наполеоновской армии, социальных конфликтах среди русского населения и московском пожаре. Биографический обзор во введении описывает жизненный путь автора в Германии и в России, на протяжении которого он успел побывать актером, купцом, масоном, лютеранским пастором и познакомиться с важными фигурами при российском императорском дворе. И.-А. Розенштраух интересен и как мемуарист эпохи 1812 года, и как колоритная личность, чья жизнь отразила разные грани истории общества и культуры этой эпохи.
Публикация открывает собой серию Archivalia Rossica – новый совместный проект Германского исторического института в Москве и издательского дома «Новое литературное обозрение». Профиль серии – издание неопубликованных источников по истории России XVIII – начала XX века из российских и зарубежных архивов, с параллельным текстом на языке оригинала и переводом, а также подробным научным комментарием специалистов. Издания сопровождаются редким визуальным материалом.
Исторические происшествия в Москве 1812 года во время присутствия в сем городе неприятеля - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Благодарные Розенштрауху люди желали почтить его память. На похороны собралось множество бедноты и представителей других вероисповеданий [328]. Доктор Карл Вильгельм Кристоф (Карл Антонович) фон Майер пожертвовал в память пастора крупную сумму 1000 рублей ассигнациями. Часть этих денег должна была быть использована на учреждение ежегодной Премии Розенштрауха для учащихся харьковской лютеранской приходской школы [329]. Сам К.А. фон Майер жил в Санкт-Петербурге (он был старшим врачом Обуховской больницы), но его отец, тоже врач, был инспектором Слободско‐Украинской врачебной управы и жил в Харькове; вот он-то вполне мог быть дружен с Розенштраухом, своим земляком по Бреслау [330]. Распространялось и изображение Розенштрауха. Единственный известный его портрет был написан в 1834 году австрийским художником Иоганном Батистом Фердинандом Матиасом Лампи (1807–1855) [331]. Гравированные копии этого портрета продавали в ходе благотворительной кампании с целью пополнить пожертвование доктора фон Майера (см. илл. 2 и 3). К 1839 году доход от продажи гравюр составил 500 рублей ассигнациями [332]. В том же году гравированные иллюстрации к гнедичевскому переводу «Илиады» рекламировались по цене 4 рубля за набор из 24 рисунков [333]; судя по этим расценкам, портрет Розенштрауха пользовался у покупателей большой популярностью.
Глава 6
«Есть у книжек судьба»:
наследники Розенштрауха, 1820–1870
«Pro captu lectoris habent sua fata libelli», – писал древнеримский автор Теренциан Мавр: судьба книг зависит от восприятия их читателей [334]. Судьба записок Розенштрауха о событиях 1812 года подтверждает этот афоризм.
За время, минувшее со смерти автора, и до самого XXI века публика лишь однажды услышала о существовании этого текста [335], но до сих пор не имела возможности с ним ознакомиться. Среди потомков Розенштрауха он передавался из поколения в поколение как семейная святыня, окруженная ореолом загадочности. Пра пра пра правнучка Розенштрауха рассказала мне слышанное ей в 1980-х годах. от своей бабушки, родившейся в 1889 году, что первоначально мемуар описывал и ранние годы жизни Розенштрауха, но члены семьи удалили эту часть, утеряв таким образом навсегда сведения о том, почему он эмигрировал из Германии в Россию [336]. Рукопись, на которой основана настоящая публикация, не обнаруживает никаких следов уничтожения текста. В то же время с 1788 года Розенштраух вел дневник, который, очевидно, утерян [337] – возможно, именно этот автобиографический текст имела в виду бабушка моей респондентки.
Откуда вся эта секретность? Чтобы ответить на этот вопрос, стоит воспользоваться советом Теренциана и пристальнее присмотреться к читателям или, по крайней мере владельцам рукописи, то есть исследовать историю потомков Розенштрауха и их место в обществе имперской России.
Зачем и для кого Розенштраух писал свои воспоминания, неизвестно, но, поскольку он работал над ними в последние месяцы жизни, рукопись вполне могла, вместе с остальными его бумагами, попасть в руки его детям. Розенштраух жил в Харькове со своей незамужней дочерью Вильгельминой: после смерти отца или после смерти Вильгельмины рукопись, вероятно, перешла к единственному наследнику пастора – проживавшему в Москве сыну Вильгельму.
Публикация мемуаров Розенштрауха была бы вполне объяснимым решением. Воспоминания о войне 1812 года пользовались в России большим спросом, а имя Иоганна-Амвросия Розенштрауха, как мы увидим, было у российских литераторов на слуху. Вильгельм наверняка об этом знал, ведь, в отличие от своего отца, он прекрасно говорил по-русски и был, в том числе через семью жены, связан с миром российской литературы и искусства. По жене он приходился свойственником М.П. Погодину. Кроме того, он был знаком с князем Петром Андреевичем Вяземским; в 1860 году Вильгельм писал тому о «долгих годах» их знакомства [338]. Дочь Вильгельма Наталья была замужем за Андреем Болиным, придворным поставщиком ювелирных украшений [339]. Сын Вильгельма Фридрих (по-русски Федор) переводил русскую литературу на английский язык [340], а в 1876–1878 годах пожертвовал «до 120 масонских книг и брошюр на немецком языке» Московскому публичному и Румянцевскому музеям (предшественнику нынешней Российской государственной библиотеки) [341]. Другой потомок Вильгельма (возможно, еще один его сын), Карл, в 1902 году предложил Третьяковской галерее купить у него картину кисти Ивана Константиновича Айвазовского [342].
Полагаю, напечатать рукопись Вильгельму помешали сложные чувства по отношению к отцовскому (да и своему) прошлому. В частной жизни он от этого прошлого не отказывался и поддерживал переписку с отцом до самой смерти последнего. Масонские книги, впоследствии пожертвованные Фридрихом музею, вполне возможно, остались еще со времен масонской карьеры Вильгельма и его отца до 1822 года. Похоже, Вильгельм сохранил и портрет своего отца работы Лампи. Однако за пределами семьи Розенштраух-младший всячески избегал демонстрировать какую бы то ни было связь с отцом.
Такой поворот событий явно не соответствовал намерениям Иоганна-Амвросия. Сам он повторно жениться не мог, но позаботился о том, чтобы брачные узы связали с местными семьями его отпрысков Вильгельма и Елизавету. Самому ему пришлось получать богословское образование неформально, в Одессе, однако своего сына Вильгельма он послал учиться в университет – в Дерпт. Муж Елизаветы стал прусским посланником в Москве, а Вильгельм – чиновником основанной Розенштраухом масонской ложи. Уезжая в Одессу, Иоганн-Амвросий передал свой магазин Вильгельму, но какое-то время казалось, что он еще сможет вернуться и стать пастором своей бывшей приходской церкви в Москве. Рисовалась заманчивая картина будущего, в котором семейство Розенштраух играло бы ведущие роли в торговых, религиозных, политических и масонских кругах московской немецкой диаспоры.
После того как Розенштраух-старший проиграл выборы на пост пастора и застрял в Харькове, Вильгельму пришлось строить себе карьеру самостоятельно. Продвижения он добивался сразу в трех областях: карабкаясь вверх по официальной лестнице сословий и почестей, занимаясь благотворительностью и занимая неоплачиваемые, но престижные общественные посты. Даже краткого знакомства с его карьерой вполне достаточно, чтобы понять, что возвышение Вильгельма было продуманным и целеустремленным.
Примерно тогда, когда Вильгельм перенял отцовский магазин, семья Розенштраух перешла в первую купеческую гильдию (сообщают, что в 1820 году Иоганн-Амвросий Розенштраух принадлежал ко второй гильдии, а в 1821 году уже к первой [343]). Вместе взятые, две эти гильдии представляли собой элиту российского предпринимательства. В период между 1816 и 1858 годами в каждый конкретный момент к первой гильдии в России принадлежало всего около 500–1000 семей, а ко второй только 1200–2700 [344]. В Москве в 1810 году в обеих гильдиях состояло 118 и 375 семей соответственно. Из-за наполеоновских войн к 1823 году эти показатели упали до 45 и 150 семей; к 1825 году первая гильдия восстановилась до 136 семей, тогда как вторая гильдия по-прежнему насчитывала лишь 149 членов [345].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: