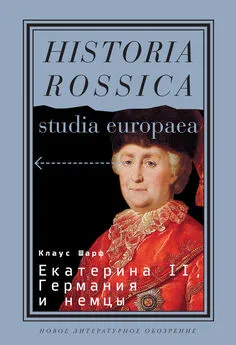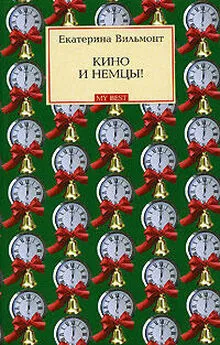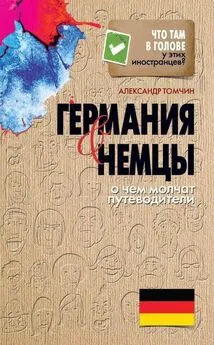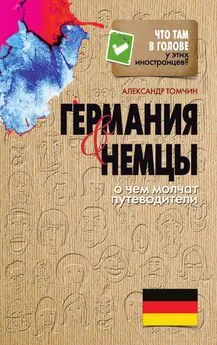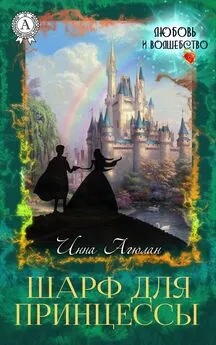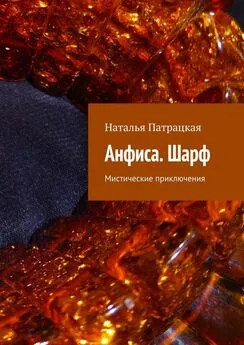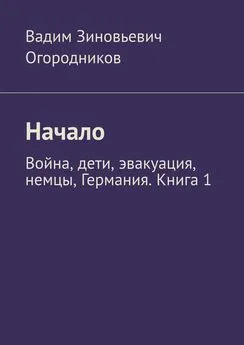Клаус Шарф - Екатерина II, Германия и немцы
- Название:Екатерина II, Германия и немцы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «НЛО»f0e10de7-81db-11e4-b821-0025905a0812
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0402-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Клаус Шарф - Екатерина II, Германия и немцы краткое содержание
Перевод книги «Екатерина II, Германия и немцы» (1995), написанной немецким историком Клаусом Шарфом, известным своими публикациями по истории России раннего Нового времени, является значительным вкладом в изучение Российской империи второй половины XVIII века – периода, неотъемлемо связанного с личностью императрицы Екатерины II. Ее личный жизненный опыт, образование, полученное в межконфессиональной среде, воспоминания о времени, проведенном в Германии, были актуальны для нее до конца жизни. Начиная с Семилетней войны и завершая войнами, которые вела революционная Франция, она стремилась быть гарантом равновесия сил в Священной Римской империи и в Европе в целом, и делала это прежде всего в интересах Российской империи, а также в целях установления мира между державами – основными игроками на европейском политическом поле.
Scharf C. Katharina II, Deutschland und die Deutschen.
Екатерина II, Германия и немцы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Что касается Германии, то там еще в последнее десятилетие жизни Екатерины сформировались две точки зрения на ее политические и моральные качества. Среди немецких авторов – как поборников, так и противников Просвещения – были и почитатели императрицы, и те, кто подвергал ее критике разной степени откровенности, упрекая в «жажде славы и завоеваний», усматривая в ее просвещенческих устремлениях лишь маскировку политических интересов, считая ее внутренние реформы неполными, противопоставляя угнетенное положение крестьян роскоши двора и уличая ее фаворитов во влиянии на правление [84]. Однако главный упрек немецких современников Екатерины состоял вовсе не в том, что она, «урожденная немка, занималась лишь русской политикой, не заботясь при этом о соблюдении немецких интересов» [85]. Напротив, некоторые авторы, проживавшие на территории Священной Римской империи, еще во времена Французской революции не только превозносили Фридриха Великого, но и не меньше гордились тем, что «немецкая княжна из безвластного дома ангальтских князей из Цербста» содействовала Просвещению в России на благо всего человечества [86]. «Ее царствование имело непреходящее значение для Российской империи, но великая императрица не является исключительным достоянием истории этой страны или ее грядущих поколений» – таков был итог, подведенный берлинским просветителем Иоганном Эрихом Бистером вскоре после смерти Екатерины. И далее: «…ее 34-летнее влияние на остальную Европу было столь мощным, что она принадлежит всем своим современникам; и в первую очередь – нам, немцам, среди которых она была рождена 67 лет тому назад» [87]. Бистер писал далее, что она родилась «во владениях Фридриха, с которым впоследствии разделила славу века сего» [88]. Находчивые панегиристы ухитрялись даже прославлять одновременно обоих правителей в самых высокопарных выражениях, словно обнаруживая историческое величие императрицы в конкуренции среди дам. «С полным правом, – писал берлинский журнал, – сейчас, на исходе века, [ее можно] удостоить звания Великой, в своем роде даже Величайшей» [89]. Вполне естественно, что в 1796 году, незадолго до смерти императрицы, статья о ней появилась в Лексиконе живущих ныне немецких писателей Иоганна Георга Мойзеля [90]. О ее немецком происхождении упоминалось и в Лексиконе ученых Христиана Готлиба Йохера, где при всей неизбежной краткости приводилось достаточное обоснование тому, «чтобы найти этой женщине всеохватного ума подобающее ей почетное место в храме литературной славы» [91]. В 1827 году ее приняли в еще один храм – «немецкий храм славы», поскольку она, «подобно великому Фридриху, благодаря своей государственной деятельности наивыгоднейшим образом [отличилась] перед всеми великими людьми тогдашней Европы» [92].
Эта патриотическая гордость, вполне сочетавшаяся с открытым, просвещенческим образом мышления, пережила резкое угасание после Польского восстания 1830 года, омрачившего представления немцев о России, причем некоторые рассуждения в эпоху национализма приобрели даже весьма грубый характер. Во времена Николая I, а особенно с началом Крымской войны, возобладала и распространилась берущая свое начало в традиции Просвещения, однако популярная и среди рьяных антипросветителей точка зрения, согласно которой в России за европейским фасадом продолжал жить азиатский деспотизм, более всего соответствующий характеру ее народа [93]. Некоторые немецкие авторы – например, Фридрих фон Раумер [94], Эрнст Геррманн [95], Самюэль Зугенхейм [96], Иоганнес Янссен [97], а также влиятельный публицист и историк прибалтийский немец Теодор Шиманн [98] – испытывали даже некоторую неловкость в связи с немецким происхождением Екатерины. После того как в 1859 году Александр Иванович Герцен опубликовал фрагменты из мемуаров Екатерины [99], откровенно изображавшие картину притворства и лицемерия, столь свойственную двору Елизаветы Петровны, императрица сама превратилась в типичное воплощение русской лживости и бессовестной жажды власти, а просвещенность ее абсолютизма была объявлена напускной. А.Г. Брикнер, считавший себя посредником между российской и немецкой историографиями, в 1883 году с явным сожалением констатировал разницу эпох: «В те времена [в конце XVIII века] космополитизма было больше, чем ныне». Однако своим простодушным историзмом он разоблачал не идеологическую составляющую исторической науки той эпохи, будь то в России или Германии, а безобидный анекдот об императрице и ее английском лейб-медике Джоне Роджерсоне: «Обращенная к доктору просьба Екатерины выпустить ей всю ее немецкую кровь – всего-навсего одна из сплетен, передающаяся бездумно и некритично и ни у кого не вызывающая вопроса об ее источнике» [100].
С другой стороны, на фоне постепенно убывавшего после 1848 года восхищения Польшей немецкая публицистика все больше критиковала альянс обеих великих немецких держав с Россией [101], попутно очерняя образ Екатерины в глазах католиков и либералов, а отношение к полученному императрицей образованию во французском духе и ее тесным связям с французскими просветителями постепенно становилось все более негативным. Что касается переписки Екатерины с знаменитыми писателями, сопровождавшейся рецепцией идей Вольтера, Монтескьё и энциклопедистов, то в придании ее гласности среди просвещенной европейской публики в свое время были заинтересованы обе стороны этого процесса. Немецкие же ученые в Москве и в Петербурге, опасавшиеся утраты своих традиционных позиций, на этом фоне якобы чувствовали себя обиженными из-за возросшего авторитета французских ученых, писателей и деятелей искусства в правление Екатерины II. В 70-е годы XIX века, с началом публикации источников по истории России, живой интерес к истории российско-французских отношений возник во Франции, усилившись в 1890-е годы благодаря заключенному обеими державами союзу. Вплоть до начала Первой мировой войны исследователи уделяли особое внимание французскому влиянию как на придворную культуру и интеллектуальную жизнь России вообще, так и на отдельных представителей элиты [102].
Рецепция трудов французских философов была лишь одним из факторов, повлиявших на формирование известного представления об императрице как о воспитаннице французских просветителей, и до сих пор этот образ едва ли подвергался пересмотру. Для суждения или – тем более – осуждения с точки зрения националистической намного важнее был тот факт, что Екатерина говорила и писала в основном по-французски. Самые главные ее произведения, как и ее важнейшая корреспонденция, были написаны по-французски, однако изучение особенностей ее языка и феномена ее многоязычия сегодня только начинается. Поскольку из всей литературы она также предпочитала главным образом французскую, исследователи долгое время недооценивали влияние других культур. В переводе на французский язык Екатерина читала Тацита и Плутарха, Чезаре Беккариа и Уильяма Блэкстоуна, в оригинале по-французски – труды прусского короля Фридриха II и немецких политических писателей – барона Якоба Фридриха фон Бильфельда и Фририха Генриха Штрубе де Пирмонта.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: