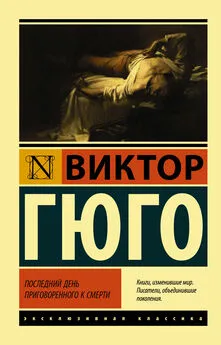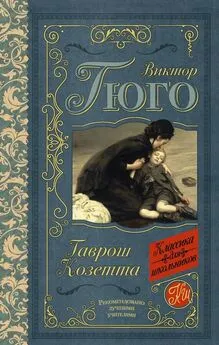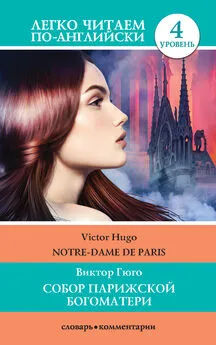Виктор Мари Гюго - Последний день приговоренного к смерти
- Название:Последний день приговоренного к смерти
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-119534-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Мари Гюго - Последний день приговоренного к смерти краткое содержание
Виктор Гюго, активный противник смертной казни, пошел, ради высших целей, на литературную мистификацию – в 1829 году он опубликовал небольшую повесть «Последний день приговоренного к смерти» анонимно, под видом подлинного дневника осужденного к высшей мере наказания. Последовал сенсационный успех, а вслед за ним – стоило открыться имени автора – столь же небывалая травля Гюго в прессе…
Однако имена хулителей давно забыты, а повесть по-прежнему остается одним из самых сильных произведений в защиту неотъемлемого права человека (пусть даже преступника) на жизнь.
В сборник также входит пьеса «Рюи Блаз», относящаяся к «романтическому» периоду творчества Гюго.
Последний день приговоренного к смерти - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
По мере того как они появлялись, их вводили между двумя рядами этапных солдат в маленький дворик, за решеткой, где ждал их докторский смотр. Там каждый из них испытывал последнее усилие, чтоб избегнуть путешествия, представляя какой-нибудь предлог нездоровья: больные глаза, хромую ногу, искалеченную руку, – но почти всегда они оказывались годными для каторги. И тогда каждый беспечно утешался, забыв в одну минуту про вымышленную болезнь всей жизни.
Решетка малого двора отворилась. Сторож стал делать им алфавитную перекличку, и тогда они выходили один за другим и каждый каторжный равнялся в углу большого двора со своим случайным товарищем по заглавной букве. Таким образом, каждому отведено место, каждый несет цепь свою рядом с неизвестным, и если случится, что у каторжного есть друг, цепь их разлучит. Последнее из несчастий.
Когда таким образом вышло их человек тридцать, решетку затворили. Этапный выровнял их палкой, бросил пред каждым из них рубаху, куртку и панталоны из толстого холста, потом дал знак, и все стали раздеваться. Неожиданная случайность, как будто нарочно, превратила это унижение в пытку.
Погода до сих пор стояла довольно сносная, и если октябрьский ветер холодил воздух, зато он иногда разрывал в серых тучах прогалину, из которой падал солнечный луч. Но только каторжные сняли с себя тюремное рубище, в ту минуту, когда они, голые, отдавались подозрительному осмотру сторожей и любопытным взглядам горожан, которые вертелись около них, осматривая их плечи, небо почернело, вдруг хлынул холодный осенний ливень и как из ведра захлестал по двору, по обнаженным головам, по нагому телу каторжных, по их жалкому тряпью, брошенному на мостовой.
В один миг двор очистился от всего, что не было сторожем, этапным; парижские буржуа приютились кой-где под навесами.
А ливень лил как из ведра. На дворе оставались одни каторжные, голые и промоченные на затопленной мостовой. Мертвое молчание сменило их шумную болтовню. Они дрожали, стуча зубами; их исхудалые ноги, их узловатые колени бились одно о другое, и жалко было видеть, как они натягивали на посиневшее тело мокрые рубахи, куртки, панталоны, которые можно было выжимать. Нагота была бы сноснее.
Один только, какой-то старик, сохранил некоторую веселость. Обтираясь мокрой рубашкой, он сказал, что этого не было в программе, потом засмеялся, показав небу кулак.
Когда они все оделись в походные платья, их повели партиями, от двадцати до тридцати человек, на другой угол двора, где их ожидали кордоны, вытянутые на мостовой. Эти кордоны суть нечто иное, как длинные и крепкие цепи, перерезанные вертикально через каждые два фута другими цепями, покороче, к оконечности которых прикрепляется четырехугольный ошейник, открывающийся с другого конца посредством шарнира и железного шпинька. В такие ошейники заковывают шею каторжного на все время похода. Эти кордоны, растянутые на земле, довольно хорошо изображают большую позвоночную кость рыбы.
Каторжных усадили в грязи на мокрую мостовую, примерили им ошейники, потом два острожных кузнеца, вооруженных ручными наковальнями, заковали их, по холодному железу, сильными ударами огромных молотов. Минута эта ужасна: самые смелые бледнеют. От каждого удара молота по наковальне, прислоненной к спине, вздрагивает подбородок пациента: малейшее движение назад, и череп может быть раздроблен как ореховая скорлупа.
После этой операции они приуныли. Слышалось только звяканье цепей да по временам крик и глухой удар палки конвойных по спине какого-нибудь упрямца. Были такие, что плакали; старики вздрагивали и закусывали губы. Я с ужасом смотрел на эти зловещие профили в железных рамках.
Таким образом, после докторского смотра – смотр приставов, после смотра приставов – заковка. Три акта в этом спектакле.
Выглянуло солнце. Казалось, оно мгновенно зажгло все эти головы. Каторжные вдруг поднялись, как будто их что толкнуло. Пять кордонов вдруг взялись за руки и таким образом составили огромный круг около фонаря. Они стали кружиться так, что в глазах зарябило. Все они пели каторжную песню, какой-то романс на их странном языке, и напев был то жалобный, то бешеный и веселый; по временам раздавались дикие крики, взрывы хохота, разбитого и запыхавшегося, смешивались с таинственными словами, а бешеные восклицания, а цепи, звякавшие в такт и служившие оркестром этому пению, более шумному, чем их бряцанье. Если б мне понадобилось изображение шабаша, я не желал бы ни лучшего, ни худшего.
На двор принесли большой ушат. Конвойные палками прекратили пляску каторжных и подвели их к ушату, в котором плавала какая-то трава в какой-то горячей мутной жидкости. Они стали есть, потом, пообедав, вылили остатки супа на мостовую, побросали черный хлеб и снова принялись плясать и петь. По-видимому, им позволяется это в день заковки и в ночь, которая за ним следует.
Я смотрел на это зрелище с таким жадным, трепетным, с таким внимательным любопытством, что позабыл сам себя. Глубокое чувство жалости охватило меня всего, а их хохот заставил меня плакать.
Вдруг, среди глубокой задумчивости, в которую был погружен, я почувствовал, как остановился и замолк ревевший круг. Потом глаза всех обратились к окну, у которого я стоял.
– Осужденный! Осужденный! – закричали они все, показывая на меня пальцами, и взрывы восторга удвоились.
Я будто прирос к месту.
Недоумеваю, почему они меня знали и каким образом могли узнать.
– Здравствуй, здорово! – кричали они мне наперебой.
Один, почти еще юноша, осужденный на вечные галеры, с глянцевитым, свинцового цвета лицом, посмотрел на меня с завистью и сказал:
– Счастливчик! Его отгрызут. Прощай, товарищ!
Трудно сказать, что происходило во мне. Я и в самом деле был их товарищем: Гревская площадь сестра Тулона, – был даже ниже их: они делали мне честь. Я содрогнулся.
Да, их товарищ! Несколько дней после, и я мог бы служить для них зрелищем.
Я остался у окна, неподвижный, оцепеневший, пораженный, но когда увидел, что пять кордонов обратились в мою сторону, кинулись на меня с отвратительно дружелюбными словами, когда услышал шумный лязг их цепей, их топот у самой стены моей, мне показалось, что это стадо чертей уже лезло к моей жалкой келье. Я закричал, бросился к двери и стал разбивать ее, но не было средств к побегу: запоры были снаружи. Потом я как будто услышал еще ближе голоса каторжных, их отвратительные лица как будто уже показалось в окне моем, еще раз вскрикнул от страха и упал в обморок.
Когда я пришел в себя, была уже ночь. Я лежал на койке; фонарь, мерцавший на потолке, помог мне разглядеть другие койки, вытянутые в ряд по обе стороны от моей. Я понял, что меня перенесли в больницу.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: