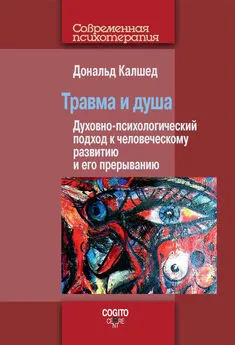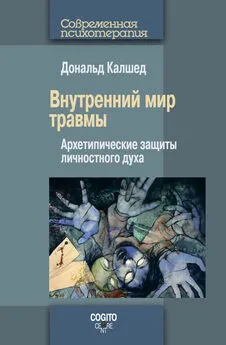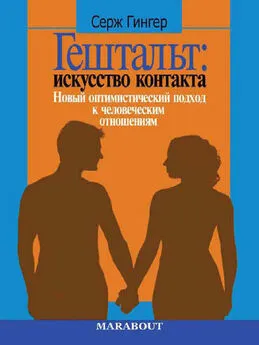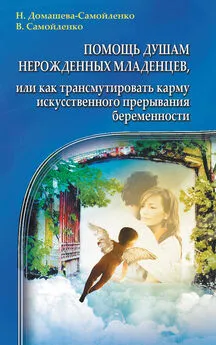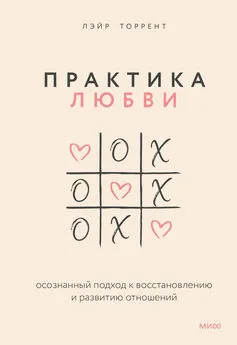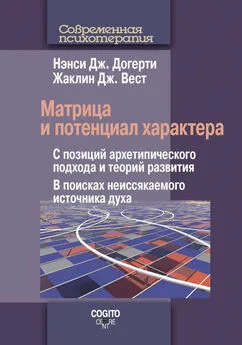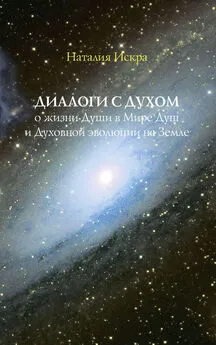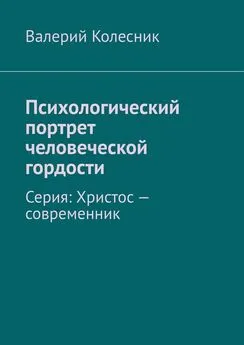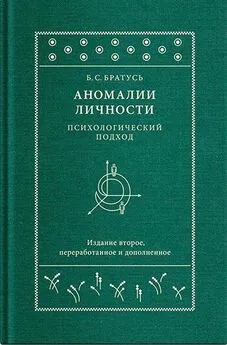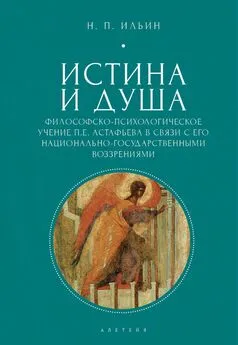Дональд Калшед - Травма и душа. Духовно-психологический подход к человеческому развитию и его прерыванию
- Название:Травма и душа. Духовно-психологический подход к человеческому развитию и его прерыванию
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Когито-Центр»881f530e-013a-102c-99a2-0288a49f2f10
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-0-415-68146-9, 978-5-89353-444-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дональд Калшед - Травма и душа. Духовно-психологический подход к человеческому развитию и его прерыванию краткое содержание
В основу психотерапии посттравматических расстройств личности Дональд Калшед кладет идею о том, что душа живет между двумя мирами – материальным и духовным, а культура предоставляет личности мифопоэтическую матрицу, помогающую выжить после тяжелой травмы. Анализируя сходства и различия юнгианского и психоаналитического подходов к терапии, автор раскрывает тонкости психологической работы со сновидениями и телесными симптомами людей, переживших ранние травмы. Особое внимание уделяется проработке в терапии диссоциации и саморазрушительных тенденций, специфике переноса/контрпереноса и недостаточной символизации. Для иллюстрации своих выводов автор использует клинический материал и художественные образы, в том числе сказки.
Травма и душа. Духовно-психологический подход к человеческому развитию и его прерыванию - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Второй источник, из которого Винникотт черпает доказательства того, что Юнгу не удалось достичь «цельного статуса», представляет собой полное отсутствие явного выражения амбивалентных чувств Юнга, особенно гнева по отношению к его родителям. (В кляйнианской парадигме любовь и ненависть по отношению к одному и тому же объекту приводят к попыткам восстановить объект, компенсировать ущерб и, наконец, к константности объекта, депрессивной позиции и, следовательно, к «цельному статусу».) Действительно, в автобиографии нет четкого описания амбивалентных чувств Юнга по отношению к его родителям, однако они подразумеваются. Примером может служить его вполне очевидное недоверие к своей матери после ее долгого отсутствия в семье, его разочарование пустой и пресной демонстративной религиозностью отца и т. д. Определенно в детских играх Юнга проявлено много агрессии, например, когда он в раннем возрасте строил башни из кирпичиков, а затем «с восторгом их разрушал», имитируя землетрясение (Jung, 1963: 33). Такие проявления невыразимых аффектов в игре ребенка с яркой внутренней жизнью не кажутся нам необычными в европейской семейной жизни XIX века и, конечно, не свидетельствуют о «недостижении цельного статуса» и не демонстрируют «детскую шизофрению».
Винникотт хочет сказать, что примитивная агрессия Юнга была вытеснена и не могла быть проработана в его объектных отношениях (особенно с его депрессивной матерью) – следовательно, это проявилось в странных подростковых фантазиях о Боге, испражняющемся на собор. По моему опыту, в этом предположении Винникотта есть доля правды, несмотря на факт, подчеркнутый Седжвиком (Sedgwick, 2008) и Мередит-Оуэном (Meredith-Owen, 2011), что сам Винникотт мальчиком страдал от той же проблемы. В нем было много гнева на свою депрессивную мать и, следовательно, он был склонен везде «видеть» эту констелляцию.
С моей точки зрения, в предположении Винникотта верным является то, что у Юнга никогда не было возможности проработать свою выраженную агрессию в отношениях со значимыми внешними объектами (можно было бы спросить, «а у кого была такая возможность?»). После неудачи с родителями Юнга ждала такая же неудача в отношениях с Фрейдом, как на это указывает их переписка, упомянутая выше. Юнг действительно пытался выразить свой искренний сильный гнев в отношении патернализма Фрейда. Фрейд же посчитал, что это «слишком» и сердито прервал дружбу, а потом уничижал Юнга в письме Абрахаму, называя его «безумцем, святошей и брутальным» (Homans, 1989: 40).
Как я уже отмечал в главе 3, Юнг так и не отвел значимого места для гнева и агрессии в своей теории развития личности, и это (наряду с недостаточным пониманием примитивных защит) привело к печальным последствиям в сфере аналитической психологии. Как и в случае многих других его трудностей в «этом мире», Юнг постепенно прорабатывал свой гнев в альтернативном внутреннем мире, представленном его ярким мифопоэтическим воображением. Например, он обнаружил в ветхозаветном Яхве образец садистической ярости (возможно, своей собственной?) и садистического жестокого обращения и патриархального гнева со стороны Другого (возможно, Фрейда?). В «Ответе Иову» он показал, что мужественный отказ Иова расщепить объект на хороший и плохой привел к целительному восстановлению отношений с объектом и наконец к гуманизации примитивного всемогущества Яхве. После того как он осознает зло в себе, он в конце концов соглашается «спуститься» и воплотиться в этом мире. До определенного момента такая мифопоэтическая проработка примитивной агрессии в творческих текстах, видимо, была для Юнга эффективной – может быть, не такой эффективной, как межличностное разрешение в переносе. Но так ли уж часто перенос приводит к полной проработке негативного аффекта? По моему опыту, редко. Теперь-то мы знаем о том, что Винникотт сам страшился своего гнева и не имел возможности выразить свои негативные чувства в своих (трагически неудачных) аналитических отношениях с Масудом Каном, принявшим характер бессознательного сговора (см.: Slochower, 2011). Это побуждает нас к сдержанному отношению к таким радикальным заявлениям: «Конечно, самоисцеление – это не то же самое, что разрешение расстройства в анализе» (Winnicott, 1964b: 484). Работа Юнга над собой демонстрирует, каким образом творческая личность может использовать «активное воображение» в отношениях с мифопоэтическими реалиями внутреннего мира, чтобы создать пространство для внутреннего разрешения проблемы, по крайней мере частичного, даже не имея возможности воспользоваться преимуществами аналитической психотерапии.
К претензии Винникотта, что за всю свою жизнь Юнг не достиг «цельного статуса», даже после того, как написал свою автобиографию (!), примыкает идея, что у человека с диссоциативными защитами, как у Юнга, «нет пространства для бессознательного». Здесь Винникотт повторяет фрейдовское понимание бессознательного лишь как хранилища вытесненных личных содержаний. Иными словами, ничего не может появиться во внутреннем мире, чего вначале не было снаружи. С этой точки зрения, вытесненное содержание может быть «скрыто» в бессознательном, в то время как диссоциированное содержание неизвестно даже сновидцу и предположительно остается несформулированным и «потерянным» где-то в области забвения, наподобие бета-элементов Биона.
Это, конечно, совершенно не соответствует описанию жизненного опыта Юнга. Он очень глубоко осознавал свои скрытые мысли, пугающие сновидения, личные тайны, приватные ритуалы типа вырезания человечка и т. д. Ничто из этого не подвергалось «примитивной» диссоциации, и сказать, что у Юнга не было «пространства», где он мог бы скрывать тайные психические содержания, в лучшем случае кажется надуманным, в худшем – полностью искажает данные, представленные в автобиографии.
Возможно, что защиты Юнга были в большей степени диссоциативными, чем у Фрейда, и это открыло ему больше коллективных, чем личных, слоев бессознательного. Конечно, в опыте Фрейда не было ничего подобного тому, что было у Юнга в течение многих лет работы в психиатрической больнице Бургхельцли. Там было много сильно диссоциированных пациентов, таких, как «Лунная леди» с ее причудливыми архетипическими фантазиями (см.: Kalsched, 1996: 72–76). С другой стороны, неприемлемо считать, что коллективные слои психики доступны только тем, у кого есть примитивные диссоциативные защиты. Это просто не верно.
Есть немало людей – и Юнг, видимо, был одним из них, – у которых есть фантазийная жизнь с мифопоэтическим уклоном, большая любознательность и чувствительность к загадкам природы и нуминозному измерению внутреннего и внешнего опыта. Это описание подходит мистикам во всем мире, и смешно полагать, что ни один из них не достиг «цельного статуса». Когда Винникотт сказал, что у Юнга не было «пространства» для бессознательного, то косвенно признал, что сам не обладает таким «пространством» для коллективного бессознательного в своем личном опыте или в своей теории и поэтому может понять такого человека, как Юнг, лишь через призму патологии. Это сильно ограничивало теорию объектных отношений в целом и помешало Винникотту в понимании подлинных глубин человеческой личности (юнговской, в частности).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: