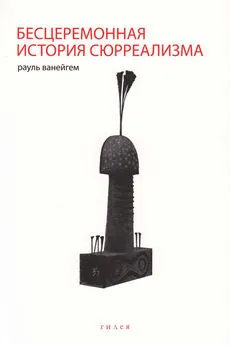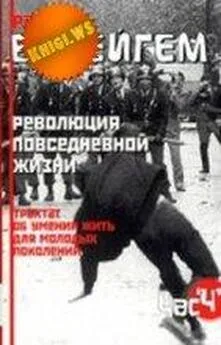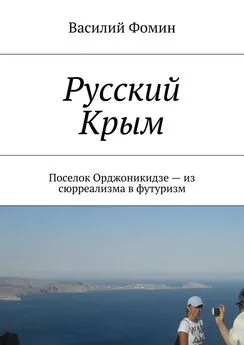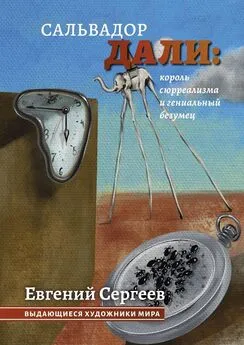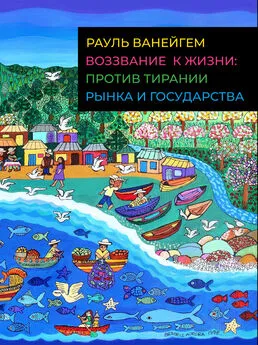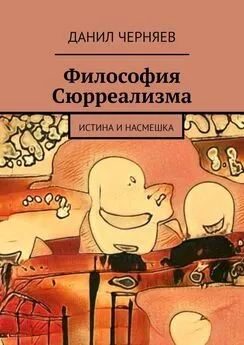Рауль Ванейгем - Бесцеремонная история сюрреализма
- Название:Бесцеремонная история сюрреализма
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-87987-091-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Рауль Ванейгем - Бесцеремонная история сюрреализма краткое содержание
В формате a4.pdf сохранен издательский макет.
Бесцеремонная история сюрреализма - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Романтизм, как и сюрреализм, понять невозможно, если не учитывать тесное переплетение культуры с организацией спектакля. Изначально всё, что задумывается как новое, несёт на себе печать отрицания буржуазного образа жизни, прагматизма, функциональности. В первой половине XIX века нет художника, который не связывал бы своё творчество с презрением к буржуазным ценностям и к понятию рыночной стоимости (впрочем, как в случае с Флобером, это ничуть не мешает художникам вести буржуазный образ жизни и класть себе в карман любые доступные деньги). Эстетство воспринимается как идеология, направленная против рыночных ценностей и превращающая мир в пригодное для жизни место, а также как идеология, повышающая значимость бытия и противопоставляющая бытие капиталистическому существованию, сведённому единственно к обладанию. Так, в рамках спектакля культура становится поставщиком престижных образцов для подражания. По мере того как экономика создаёт культурный рынок, превращая книги, картины и скульптуры в товары, господствующие формы культуры становятся всё более и более абстрактными и провоцируют ответную реакцию антикультуры. В то же время чем сильнее экономика влияет на общество и чем активней она повсеместно насаждает товарную систему, тем больше буржуазия нуждается в обновлении спектакля собственного свободного идеологического рынка, чтобы скрыть усилившуюся эксплуатацию, которая вызывает всё более жёсткое сопротивление пролетариата. После войны 1939–1945 годов в результате распада великих идеологий и расширения рынка (за счёт книг, пластинок и ориентированных на культурную сферу технических новинок) культура окажется в центре всеобщего внимания. К тому же нищенское существование толкает людей на поиск абстракции, побуждает их к жизни по образцам, универсальный вымышленный характер которых (преобладание изображений, стереотипов) нуждается в полном обновлении. Сюрреализм станет жертвой этого коммерческого присвоения, которое он всегда отвергал душой и разумом.
Но культура не монолит. Будучи областью разделённого знания, она свидетельствует о разобщении; она является территорией частичных знаний, претендующих на абсолют во имя древнего мифа, безвозвратно утерянного и вечно искомого. Сознание творца в свою очередь тоже видоизменяется по мере того, как (около 1850 г.?) культура формирует параллельный рынок и порождает «единицы» престижа, которые в системе, направленной на зрелищность, заменяют прибыль или же дополняют её, так или иначе с ней взаимодействуя. Если художник не вырвется наружу из мыльного пузыря культуры, в котором он бо́льшую часть времени довольствуется лишь приумножением собственного отражения, то он рискует превратиться в простого производителя товаров культуры или в чиновника, что трудится на поприще эстетики и идеологии спектакля. Он отвергает окружение в ответ на недоверие, с которым деловой мир к нему относится, и в результате легко может стать человеком ложного сознания [4] Ложное сознание – марксистский термин, которым обозначается искажённое, ложное мировоззрение и восприятие действительности, от которого страдают угнетённые классы. Это сознание формируется в результате того, что господствующие классы систематически скрывают от крестьян, крепостных и рабочих реальные факты их угнетения и эксплуатации. Сам Маркс этот термин не употреблял, однако понятие тесно связано с марксистской классовой теорией.
. Когда делец упрекает его в неумении «твёрдо стоять на земле», он обращается к духовности. Отголоски этого бессмысленного спора между меркантилистским «материализмом» и Духом, будь он реакционным или революционным, и по сей день слышатся в сюрреализме.
И всё же самым ясным и чутким творческим умам удаётся в большей или меньшей степени сопоставить собственное положение с положением пролетариата. Здесь берёт своё начало тенденция, которую можно назвать «радикальной эстетикой» (Нерваль, Стендаль, Бодлер, Китс, Байрон, Новалис, Бюхнер, Форнере, Блейк и т. д.). В ней поиск нового единства выражается в символическом разрушении старого мира, в провокационном отстаивании принципов безвозмездности, в отрицании рыночной логики и непосредственной реальности, которой эта логика управляет и которую она определяет как единственно возможную. Представителем этой позиции в историческом сознании станет Гегель.
С другой стороны – в результате перехода «радикальной эстетики» в «радикальную этику» – в сознании культуры как отдельно взятой области и в сознании мыслителя или художника, отчуждённого от общества ввиду чисто духовного бессилия, возникает механизм защиты творческой деятельности, подлинного существования, неотделимого от критики товарной системы и способа выживания, который эта система повсеместно насаждает. Данный подход наглядно демонстрируют Маркс и Фурье.
Наконец, существует ещё одно течение, которое, по большей части отклонившись от исторического пути Маркса и Фурье, ставит основной своей целью упразднение культуры как отдельной сферы деятельности посредством внедрения искусства и философии в повседневную жизнь. Это направление, прослеживаемое от Мелье до Де Сада, охватывает Петрюса Бореля, Гёльдерлина, Лассайи, Кёрдеруа, Дежака, Лотреамона и заканчивается Равашолем и Жюлем Бонно. Означенная линия мысли, а точнее, череда случайных переплетений теории и практики, очерчивает пунктиром идеальную карту радикального метода. Проистекая из истории, она к ней же и возвращается, притом зачастую насильственным путём, не видя, однако, собственных истинных возможностей. Эти изолированные, но тем не менее слаженно звучащие голоса, которые зарождаются в мощной волне человеческого раскрепощения, по-настоящему зазвучат в 1915–1925 годах, воспевая историческое возмездие над всеми формами идеологии.
Дада знаменует осознание идеологического распада и вместе с тем желание покончить с идеологией раз и навсегда во имя настоящей жизни. Но дадаистский нигилизм представляет собой опыт абсолютного, а значит, абстрактного разрыва. Он не опирается на исторические условия, которые были предпосылками его появления, и более того, отрицая священный характер культуры, высмеивая её как самостоятельную область, играя с её элементами, он оказывается отрезанным от творческой традиции, которая точно так же пыталась уничтожить искусство и философию. Однако в отличие от дадаизма эта традиция стремилась начать с нуля, чтобы обеспечить жизнь каждого члена общества такими новыми формами искусства и философии, которые существовали бы вне рамок идеологии и культуры.
После неудачного опыта дада эту традицию возобновляет сюрреализм. Он подхватывает её так, словно дадаизм никогда не существовал, словно динамитного взрыва культуры не было и в помине. Он лелеет надежду, которая не давала покоя никому, от Де Сада и до Жарри, не понимая, что преодоление обычных возможностей стало реальностью. Он собирает и распространяет великие чаяния, не замечая, что условия для их претворения в жизнь уже присутствуют. В итоге он возрождает спектакль, скрывающий от пролетариата – носителя полной свободы – историю, в создании которой этот последний класс должен был принимать участие. Сюрреализму мы обязаны созданием всенародной школы, которая хоть и не смогла осуществить революцию, но по крайней мере сделала имена революционных мыслителей всеобщим достоянием. Именно сюрреализм первым во Франции чётко разграничил Маркса и большевиков, он же превратил Лотреамона в заряженное ружьё и водрузил в центре христианского гуманизма чёрный флаг Де Сада. И даже поражение сюрреализма было достойно его славы.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: