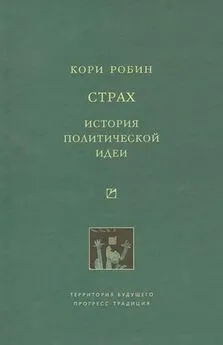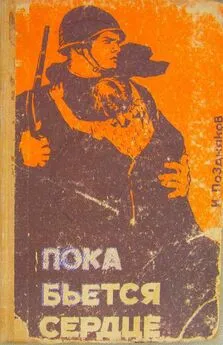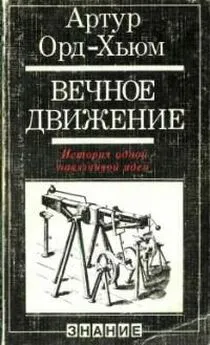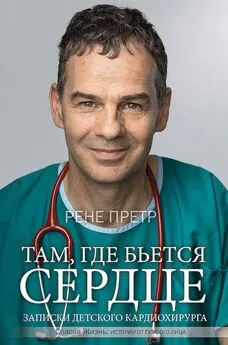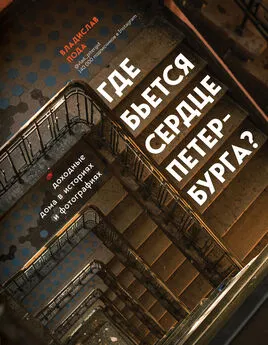Райнер Ханк - Слева, где бьется сердце. Инвентаризация одной политической идеи
- Название:Слева, где бьется сердце. Инвентаризация одной политической идеи
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-91603-632-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Райнер Ханк - Слева, где бьется сердце. Инвентаризация одной политической идеи краткое содержание
Как пишет автор в предисловии: «О чем эта книга? О том, на чем были основаны наши политические убеждения? Как мы оценивали их? Как возникла наша “левая” картина мира? Когда в ней появились первые трещины? И когда я стал либералом?»
Слева, где бьется сердце. Инвентаризация одной политической идеи - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Инвентаризация – трезвый процесс, который, однако, не оставляет человека безучастным. Тот, кем я являюсь сегодня, приветствует того, кем я когда-то был. Встреча с самим собой по прошествии сорока лет не всегда протекает просто. Речь идет о прожитом, но необязательно понятом отрезке современности. Биографии других людей – частью несколько старше, частью несколько моложе меня, – о которых рассказывается в разных частях книги, должны помочь внести ясность в диковинное хитросплетение как типичных для когорт, так и исключительно индивидуальных взглядов.
«Вот мой блокнот, моя плащ-палатка, мое полотенце и нитки мои», – говорится в конце стихотворения Гюнтера Айха «Инвентаризация» (1945). Речь идет о том, чтобы воспринять чью-то историю, как свою. Надежда на то, что этот опыт даст толчок параллельным процессам восприятия.
II
Почему алчность делает сердце холодным и где живет тепло. Почему красивые женщины сплошь левые и как это связано с нашими ценностями
Как у человека вообще появляются ценности, позиции, точки зрения, предпочтения?До решающих событий 1972 года и моего переезда в Тюбинген было ведь уже много ранних влияний. Я рос в центре Штутгарта, где было, правда, много банков, правительственных зданий и универмагов, но не было жилых домов, поэтому с ранних лет два соседа стали для меня особенно важными: церковь и театр. Католическая церковь, буквально стеной к стене примыкающая к зданию банка, в котором мой отец работал комендантом и где находилась наша служебная квартира, после раннего ухода из жизни моей мамы в 1961 году стала для меня чем-то вроде замены чувству безопасности. Как для многих католических мальчиков моего поколения, близкое знакомство с христианской верой началось с прислуживания в качестве министранта. Поскольку это происходило еще до Cобора, было, разумеется, большое количество пышных одеяний, много фимиама, много латыни, а на Рождество, Пасху и другие праздники всегда исполнялась большая месса Гайдна или Моцарта с солистами и большим шумом вокруг. В католических мессах, как минимум в то время, присутствовали некая эстетика и театральность, и они служили для маленького министранта подходящим местом самопредставления. Да и дома тоже – мне было шесть или семь лет – часто в форме литургий исполнялись мессы и совершались майские богослужения в честь Девы Марии. Я цитирую великого Томаса Готтшалька: «Моя мама должна была исполнить пять аккордов на пианино, после этого начиналась процессия: я перемещался в гостиную, благословлял присутствующих и, водрузившись на кресло, произносил свои проповеди».
Примерно так же, только без фортепианных аккордов, можно представить себе происходящее и в моем случае. Тогда еще существовали большие процессии по поводу праздника Тела Христова с поклонением Святым дарам, опыт, который был мне очень приятен. Еще и еще раз повторю за Томасом Готтшальком: «Все мои воспоминания положительные. Для меня церковь в то время значила следующее: романтику костров в молодежных лагерях, фимиам латинских месс и лучи утреннего солнца, которые преломляются в мозаике церковных окон».
После Собора, в конце 60-х годов, нам в эстетическом самоотнесении литургии стало не хватать критического элемента, ибо, как мы считали, христианство также должно было изменять мир, а не только славословить его с большим количеством фимиама. Тогда мы начали ворчать, спорить со священником, называть оркестровые мессы выражением распространенного потребительства, обвиняли литургию в неправдоподобности и высказывались в том смысле, что Иисус жил не для того, чтобы в состоянии некоторого дурмана от фимиама отворачиваться от мира, а для того, чтобы поворачиваться лицом к бедным. Изменение общества с Новым Заветом: это было началом моего перехода на левые позиции. Друзья, которые позднее хотели отвратить меня от этого, говоря о католическом социализме, всегда меня этим очень обижали. Поскольку здесь звучит и обвинение в недостаточном анализе, т. е. такая позиция может признаваться лишь как интеллектуально несостоятельная. При этом мы ведь тоже хотели изменить мир, и именно в духе евангелизма.
Изменение мира было и темой второго важного опыта молодости, опыта театра, где я, начиная примерно с пятнадцатилетнего возраста, наверняка раз в неделю, мне ведь надо было для этого пройти лишь сто метров, смотрел все, что там показывали. В большинстве случаев это был Брехт или Шекспир, но было и много другого; при этом большое количество трупов в шекспировских королевских драмах импонировало мне намного меньше, чем левый пафос трезвости у Брехта. Поэтому, в общем, неудивительно, что две эти составляющие раннего опыта моей жизни я превратил в предметы учебы в университете – теологию и германистику. Причем и здесь мой случай отнюдь не единичный, прежде всего, когда для литературы стал важен преподаватель немецкого, который знакомил нас не только с Лессингом и Траклем, но и с правилами языка и который пробуждал страсть к дискутированию.
Делал он это обычно на примере совершенно бессмысленных тем типа «Держать домашних животных полезно или вредно?», чтобы мы упражнялись не столько в вероисповедании, сколько в логическом аргументировании. Лишь позднее к этому добавились рассуждения на экзистенциональные темы, например вопрос «Что лучше – быть мертвым или красным?», ответить на который тогда, до и после 1968 года, было не очень сложно.
«Лучше красный, чем черный» – эти слова потом стали чем-то вроде невысказанного девиза первых тюбингенских семестров. Нужно быть ангажированным, так звучал их категорический императив. Где и в чем – подсказки для ответа содержали горы листовок, неровным слоем покрывавшие столы в студенческой столовой. Поскольку мы считали, что семинар, посвященный отцу церкви Тертуллиану, где в первом семестре пришлось иметь дело с не совсем простыми латинскими текстами, не имеет «общественной значимости» и не содействует реально нашему стремлению быть ангажированными, мы просто взорвали это мероприятие, т. е. потребовали дискутировать не о Тертуллиане и ранней церкви, а о рамочном законодательстве высшей школы и экономике образования, что бы это тогда ни значило, и теологии освобождения в Латинской Америке – разумеется, без профессора по начальной истории церкви, который, по праву обидевшись, покинул «поле битвы». Это происходило намного жестче и не так вежливо, как сегодня, когда активисты «Attac» или «Occupy» заранее записываются на дискуссионные мероприятия. Или, говоря яснее: это происходило достаточно насильственно и содержало в себе некое противоречие, если учесть, что мы любили Иисуса и Ганди и, теоретически, разумеется, выступали за свободу от насилия.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: