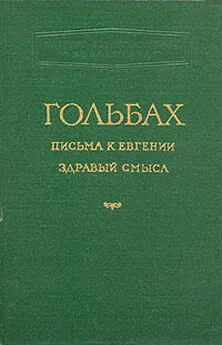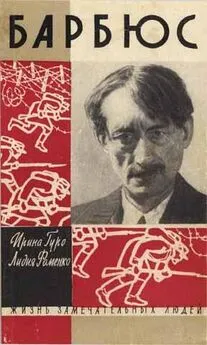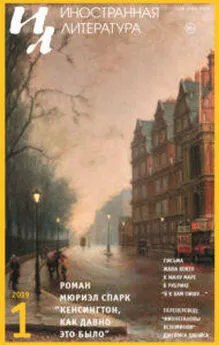Ирина Блауберг - Анри Бергсон
- Название:Анри Бергсон
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Прогресс-Традиция»
- Год:2003
- Город:Москва
- ISBN:5-89826-148-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ирина Блауберг - Анри Бергсон краткое содержание
В оформлении переплета использована живопись У. Тёрнера.
Анри Бергсон - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В таком случае восприятие – это своего рода динамическое отношение, связывающее «центры реального действия» с окружающими их предметами («образами»). Роль восприятия состоит первоначально и преимущественно не в познании, а в выделении тех частей материи, на которые мы можем воздействовать. Тогда сам процесс восприятия будет чем-то вроде отражения света, исходящего от вещей, причем восприниматься будет то, что может нас практически затронуть. Это можно пояснить так. Вот, к примеру, передо мной дерево в лесу. Оно, как часть материи, находится во взаимодействии со всеми ее остальными частями, причем в случае неживой материи такое взаимодействие, как говорит Бергсон, происходит «без сопротивления и без потерь». Когда данное дерево мне безразлично, я его не воспринимаю. Но если оно оказывается в сфере моего внимания, представляет для меня какой-то интерес, ситуация меняется. Воздействие, исходящее от дерева, словно бы наталкивается на мое тело как «центр индетерминации» и, встретившись с моей спонтанной реакцией, отражается обратно, на само дерево. Так возникает мое конкретное восприятие дерева, причем образуется оно в принципе не во мне, а в дереве: тот «образ», которым исходно является дерево, словно удваивается вторым образом, уже в обычном понимании: образом восприятия; при таком «отбрасывании назад» очерчиваются контуры направляющего свое действие предмета [191]. В этом конкретизируется, кстати, и роль центрального «образа» – тела, виртуальное действие которого «выражается в кажущемся отражении им окружающих образов обратно, на самих себя» (с. 187).
Если рассмотреть подобное восприятие в чистом виде, то есть как не имеющее длительности, безличное и, соответственно, не отягощенное какими-либо впечатлениями прошлого опыта, то окажется, что оно могло бы «достигнуть одновременно непосредственного и моментального видения материи» (с. 178) [192]и, находясь в известном смысле не в нас, а в самих вещах, будучи причастно им, дает их достоверное отображение. Реальность внешних предметов схватывается в чистом восприятии «интуитивно» (с. 204), т. е. непосредственно. Здесь нет еще разделения на объективное и субъективное, они слиты воедино; субъективным восприятие становится лишь позже, локализуясь в определенном центре действия – теле. Теперь, благодаря реалистской позиции, сфера непосредственного знания у Бергсона существенно расширилась: непосредственно и, значит, достоверно не только то, что мы постигаем в собственном сознании, но и то, что дается внешними чувствами. Следовательно, наше восприятие материи не является – по крайней мере в принципе – относительным и субъективным: оно верно представляет нам предмет; просто конкретное восприятие неполно, поскольку связано с нашими потребностями и удерживает от реальности только то, что нас практически интересует. В самой же материи нет при этом никаких таинственных свойств, скрытых сил, никакой «виртуальности». Важно тут и другое: именно человеческое действие вносит в мир нечто новое, вплетая в цепь непрерывных взаимодействий предметов, окружающих человека, качественно иные моменты. В этом смысле именно тело является «инструментом свободы», выбора [193].
Все это довольно сложное философское построение понадобилось Бергсону для обоснования чрезвычайно важной в его концепции идеи о неразрывной связи познания с действием, его изначально практической направленности. И именно в этом пункте он противопоставляет свою концепцию предшествующим учениям о познании. Такой подход, с его точки зрения, позволяет преодолеть общий постулат идеализма и реализма о восприятии как чистом познании, приводящий, как он замечал выше, к неразрешимым проблемам: ведь они вынуждены для объяснения связи сознания и материи прибегать либо к теории сознания как эпифеномена (в случае материалистического реализма), либо к гипотезе о предустановленной гармонии. Если же сразу принять точку зрения действия, ситуация прояснится и не будет необходимости вводить каких-либо дополнительных условий. Тогда-то мы и вернемся к позиции здравого смысла (sens commun), согласно которой мы непосредственно постигаем предмет таким, как он дан сам по себе, – т. е. в нем самом, а не в нас. В объяснении всех этих процессов нет нужды доходить до солипсизма, как поступал Беркли, утверждая, что «быть – значит быть воспринимаемым». Не следует отрицать реальность материи и сводить ее к восприятию. Нужно лишь осознать, полагает Бергсон, что если мы станем на позицию действия, а не чистого познания, перестанем видеть в восприятии чисто созерцательную способность, то проблема разрешится сама собой. Ведь «для образа быть и быть воспринятым сознанием — состояния, различающиеся между собой лишь по степени, а не по природе» (с. 180).
Но как же все-таки объяснить, что восприятие становится сознательным? Бергсон пока не высказывается более ясно. Переходя к проблеме сознания, он пишет: «Возьмем систему согласованных и связанных между собой образов, называемую материальным миром, и вообразим, что в ней там и сям разбросаны центры реального действия , представленные живой материей: я утверждаю, что вокруг каждого из этих центров должны разместиться образы, зависящие от его положения и меняющиеся вместе с ним; я утверждаю, следовательно, что в этом случае необходимо должно возникнуть сознательное восприятие» (с. 176). Но в действительности все это само по себе еще не объясняет такой необходимости. Ведь если мозг и нервная система в целом – только аппарат, не порождающий представлений, то при любом их развитии, при любом усложнении системы реакций живого существа ничего по сути измениться не может. Поэтому требуется введение каких-то иных допущений. Если сознание не связано с мозгом, то откуда оно появляется? На этот вопрос Бергсон дает следующий ответ: «Всякая попытка дедуцировать сознание была бы предприятием слишком самонадеянным, но в данном случае в этом… и нет необходимости» (с. 178); получается, что мы уже исходим из наличия сознания, как из какой-то данности. И это действительно предполагается начальной бергсоновской гипотезой: раз нам дан материальный мир, то тем самым и дана совокупность образов. Иная позиция вновь приводит к разделению материи и сознания, и все сложности, которые Бергсон стремится преодолеть, возникают опять. Поэтому он не дедуцирует сознание, а фактически рассматривает только вопрос о том, какие условия необходимы для того, чтобы восприятие приобрело сознательный характер.
Основное из этих условий – ограничение чистого восприятия. Поэтому исходную посылку нужно уточнить. Предполагавшееся ранее чистое восприятие, поясняет Бергсон, – абстракция: такое допущение является методологическим приемом, облегчающим понимание проблемы. В реальном процессе восприятия все происходит гораздо сложнее. Во-первых, человеческое восприятие ограничивается с помощью мозга, который фиксирует и направляет дальше полученные сигналы, исходя из практических потребностей. Сознание в этом смысле есть отбор среди внешних восприятий тех, которые важны для действия, это некая способность различения, намечающая контуры будущего возможного действия. Во-вторых, восприятия связаны с чувствами, т. е. аффективными состояниями, локализованными внутри тела, и это в свою очередь вносит в них определенные модификации. В-третьих же – и это главное, – восприятие становится сознательным в силу неразрывной связи с воспоминанием. «Воспринимать все влияния, ото всех точек всех тел, значило бы опуститься до состояния материального предмета. Воспринимать сознательно – значит выбирать, и сознание состоит прежде всего в этом практическом различении» (с. 187). А выбор человеком любой его реакции зависит от его прежних опытов, т. е. от памяти. Чистое восприятие изначально безлично, и именно память, вслед за телом, придает восприятию субъективный характер. (Здесь, правда, опять возникает все тот же вопрос: откуда берутся образы памяти, воспоминания, когда сознания еще нет? То, о чем говорит Бергсон, вновь объясняет не появление сознания, а реальный процесс функционирования сознательного восприятия.) Образы прошлого непрерывно добавляются к настоящим впечатлениям; восприятия «пропитаны» воспоминаниями. Такое соединение восприятия и воспоминания в реальном познавательном процессе и приводило, по Бергсону, к тому, что этот процесс толковался неверно. Психология совершает ошибку, видя в воспоминании лишь ослабленное восприятие и выводя память из действия мозга. Фактически между ними существует, по излюбленному выражению Бергсона, различие не по степени, а по природе. Чтобы понять, как действительно обстоит дело, нужно выявить существующий здесь «эндосмос»: выделить восприятие и воспоминание в чистом виде, два предела, две крайности со своими специфическими характеристиками, а уже затем показать, как и почему они соединяются.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: