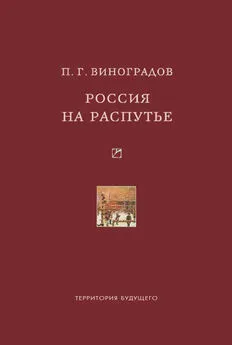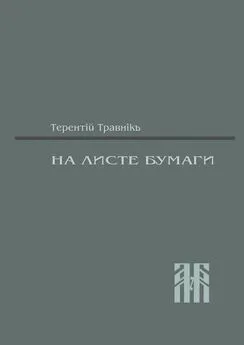Павел Виноградов - Россия на распутье: Историко-публицистические статьи
- Название:Россия на распутье: Историко-публицистические статьи
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Территория будущего»
- Год:2008
- Город:Москва
- ISBN:5-91129-006-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Павел Виноградов - Россия на распутье: Историко-публицистические статьи краткое содержание
Россия на распутье: Историко-публицистические статьи - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Говоря о значении Грановского как университетского деятеля, мы в то же время касаемся и его общественной роли. Университеты всегда были не только педагогическими и учеными учреждениями, но до некоторой степени и центрами общественной жизни, так как на них особенно сильно отражаются идеи, двигающие и волнующие общество. И никогда это свойство не было так заметно, как в Московском университете в 40-50-х годах. Особые условия тогдашнего русского строя давали университету значительное положение. Гласность почти не существовала, государственная деятельность имела чисто бюрократический характер, литература и журналистика стояли под строгою цензурой. Общество поэтому прислушивалось к голосу с кафедры гораздо более, чем стало делать впоследствии.
Но понятно, что университетскими делами и деятелями не исчерпывалось общественное движение того времени. Оно находило и другие своеобразные формы. Это было время кружков. Никогда в Москве столько не собирались и не спорили. Это обсуждение общих вопросов изо дня в день одними и теми же собеседниками наложило определенный отпечаток на сами теории и их выражения в литературе. Мало-помалу взгляды отшлифовывались, если можно так выразиться, приобретали правильность, диалектическое развитие и некоторую искусственность. Не было того разнообразия, беспорядочности, необработанности, которые поражают в наше время.
Всем известно, что главная борьба происходила между лагерями славянофилов и западников. Здесь не место входить в подробное изложение и критику этих теорий. Но мы не можем не коснуться общей их противоположности уже ввиду того, что Грановский вместе с Белинским и Герценом являлся главным оплотом западничества.
На поверхности спора лежал вопрос об усвоении Россией западной культуры. Но дело не состояло просто в том, что одни считали всякое усвоение полезным, а другие – вредным, что одни защищали древнюю Россию, а другие – новую. Разница сводилась не к таким грубым противоположностям, чтобы уяснить ее себе, надо прежде всего указать, что об теории были в целом ряде пунктов согласны друг с другом. Славянофилы, подобно западникам, допускали усвоение полезных приемов, знати, памятников литературы и искусства. Западники, подобно славянофилам, во многом упрекали новую Россию – и тем, и другим был не по сердцу петербургский бюрократический строй. И те, и другие, наконец, признавали по Гегелю возможность и необходимость исторической смены дряхлеющих народов более свежими и сильными. Но одни находили, что все основные культурные начала Россия должна искать в себе самой, что религиозный и политический материал достаточен для дальнейшего развития. Другие утверждали, что удовлетворяться этим материалом значит останавливаться на первоначальных ступенях развития, отказываться от западноевропейских идей значит отрекаться от великого наследия общего культурного развития, которое прошло через Западную Европу раньше, чем через Восточную, и потому должно быть усвоено Востоком с Запада. Одни восставали против всей практики петербургского периода и примирялись с организацией правительственной власти, поскольку она перешла к петербургскому периоду от московского; другие горячо защищали дело Петра 141как культурное обновление и в то же время желали продолжения этого дела как политического обновления. Одни думали, что в преемственности великих народов не только найден наследник для дряхлеющего Запада – Россия, но что дряхлый Запад умер, гниет, и остается только вступить в наследство. Другие находили такое притязание очень преждевременным и советовали подождать, пока действительно заглохнет в Европе духовное творчество, а Россия обнаружит свою силу не только в предварительной работе государственного и хозяйственного строительства, но и в сфере высшей культуры, выдвинет новые и плодотворные идеи, создаст свои духовные памятники. И в сущности в глубине этих споров лежало коренное разномыслие в понимании основного принципа – культуры. Славянофилы имели в виду культуру народную, которая усваивается непосредственно большинством, широкие религиозные и политические обобщения, которые почти бессознательно вырастают в народе под влиянием его племенного предания, общего исторического и географического положения, форм труда, климата, наконец, начальной школы или проповеди. Эти формы действительно определились уже в древней России, и славянофилы считали прямо вредным подвергать их дальнейшим видоизменениям. Западники отталкивались от понятия культуры как сознательного творчества человечества. Дело великих мыслителей было для них не простою надставкой к общей жизни людей, а высшим ее выражением. Различая народы дикие и исторические, они различали дальше полусонною жизнь темного люда, беспомощного и несчастного от своей темноты, и сознательную самодеятельность людей, которые знают, какая великая сила человеческая мысль. Они видели в истории, как духовные приобретения немногих делались достоянием всех и как высшие идеи становились рычагом для улучшения в быте масс. Не будь высшей, идейной культуры, до сих пор существовало бы рабство. Ни один из этих идеалистов и в уме не имел отгородиться от массы, этим требованием высшей культуры создать основание для умственной аристократии, для самодовольного господства меньшинства. Напротив, вся их деятельность была направлена на то, чтобы поднять массы до себя, дать им досуг и образованность, дать им личность.
Понятно, на какую сторону в этом споре должен был стать Грановский. «Многочисленная партия подняла в наше время знамя народных преданий и величает их выражением общего непогрешимого разума. Такое уважение к массе неубыточно. Довольствуясь созерцанием собственной красоты, эта теория не требует подвига. Но в основании своем она враждебна всякому развитию и общественному успеху. Массы, как природа или как скандинавский Тор 142, бессмысленно жестоки и бессмысленно добродушны. Они коснеют под тяжестью исторических и естественных определений, от которых освобождается мыслью только отдельная личность. В этом разложении масс мыслью заключается процесс истории. Ее задача – нравственная, просвещенная, независимая от роковых определений личность и сообразное требованиям такой личности общество» [110] Соч. II, стр. 220.
. Он не мог не быть западником. К этому вела не заграничная командировка и не занятие иностранным материалом, а все понимание истории, основной принцип этого понимания – идея всеобщей истории. Грановский признал, что существует некоторое общее историческое движение в отличие от всех частных, признал, что показателем этого движения служит прогрессивная выработка идей, признал, что каждый шаг вперед отправляется от предшествовавшего, признал, что в жизни народной это равносильно усвоению чужеземной культуры вступающим на смену народом. Практические приложения к России были очевидны. Необходимо было сделать западную цивилизацию своею, чтобы одолеть ее и пойти дальше. И Грановский был слишком взыскателен, чтобы ошибиться относительно того, в какой степени эта подготовительная работа пополнена. Он не видел еще в России той «новой науки», которую провозглашал Хомяков, возмущался, когда говорили о гражданском распадении Запада люди, сидевшие в грязи крепостного права.
Интервал:
Закладка: