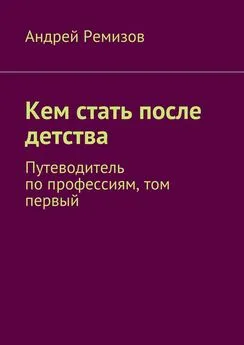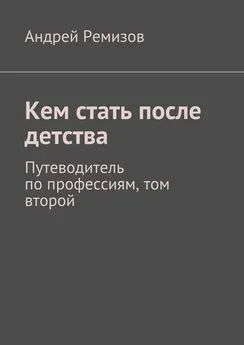Андрей Балдин - Московские праздные дни: Метафизический путеводитель по столице и ее календарю
- Название:Московские праздные дни: Метафизический путеводитель по столице и ее календарю
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Астрель, Олимп
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978-5-271-23741-6, 978-5-7390-2341-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Балдин - Московские праздные дни: Метафизический путеводитель по столице и ее календарю краткое содержание
Литература, посвященная метафизике Москвы, начинается. Странно: метафизика, например, Петербурга — это уже целый корпус книг и эссе, особая часть которого — метафизическое краеведение. Между тем “петербурговедение” — слово ясное: знание города Петра; святого Петра; камня. А “москвоведение”? — знание Москвы, и только: имя города необъяснимо. Это как если бы в слове “астрономия” мы знали лишь значение второго корня. Получилась бы наука поименованья астр — красивая, японистая садоводческая дисциплина. Москвоведение — веденье неведомого, говорение о несказуемом, наука некой тайны. Вот почему странно, что метафизика до сих пор не прилагалась к нему. Книга Андрея Балдина “Московские праздные дни” рискует стать первой, стать, в самом деле, “А” и “Б” метафизического москвоведения. Не катехизисом, конечно, — слишком эссеистичен, индивидуален взгляд, и таких книг-взглядов должно быть только больше. Но ясно, что балдинский взгляд на предмет — из круга календаря — останется в такой литературе если не самым странным, то, пожалуй, самым трудным.
Эта книга ведет читателя в одно из самых необычных путешествий по Москве - по кругу московских праздников, старых и новых, больших и малых, светских, церковных и народных. Праздничный календарь полон разнообразных сведений: об ее прошлом и настоящем, о характере, привычках и чудачествах ее жителей, об архитектуре и метафизике древнего города, об исторически сложившемся противостоянии Москвы и Петербурга и еще о многом, многом другом. В календаре, как в зеркале, отражается Москва. Порой перед этим зеркалом она себя приукрашивает: в календаре часто попадаются сказки, выдумки и мифы, сочиненные самими горожанами. От этого путешествие по московскому времени делается еще интереснее. Под москвоведческим углом зрения совершенно неожиданно высвечиваются некоторые аспекты творчества таких национальных гениев, как Пушкин и Толстой.
Московские праздные дни: Метафизический путеводитель по столице и ее календарю - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Таково для него начало сражения: огонь напал на воду.
Один порядок бытия нашел на другой; внешний счет времени на внутренний, московский. Европа прямым фронтом надвинулась на Россию, и это только внешне ряды солдат, идущие столь ровно, что Багратион кричит им «Браво!». На деле это наступление другого порядка бытия, другого времени, другого календаря.
Тот мир — огонь, война. Наш мир — вода, мир.
Мысль о столкновении стихий, о войне миров оформится окончательно, когда в самый разгар боя Толстой попытается приблизиться к эпицентру сражения, схватке за Багратионовы флеши, — и сразу отшатнется, увидев область огня.Толстой не описывает того, что творится в огне, и даже Пьеру не позволяет взглянуть в огонь.
Там иное; по линии огня наш мир оборван.
Вот зачем были нужны диспозиция и схема: граница миров и времен проведена по вертикали, по меридиану(меридиан всегда чертит границу времен, линию перемены дат, часовых поясов, границу разно верующих миров). Меридиан Бородинского поля разделяет армию Наполеона и левый фланг русских. По этой линии идет лобовое столкновение войск.
От начала сражения и первых залпов пушек, сначала удаленных и затем приблизившихся вплотную, до двух часов дня, все нарастая, идет эта схватка по прямой . Точно земля, как бумага, отрезана ножом и сверху донизу подожжена по линии — по прямой идет сражение: расстреливая друг друга издали и в упор, сходясь в слепой рукопашной, тысячные массы войск качаются на линии огня. Отступить немыслимо, невозможно: геометрия сражения такова, что позади не Москва, но как будто пропасть, обрыв времен. И цепляясь за этот обрыв, несколько часов, словно антимиры, два войска в слепой схватке уничтожают друг друга. Квадраты полков расползаются в хаос, растворяются в огне. Наконец это взаимоистребление фокусируется в точке, на Курганной высоте: теперь не по линии, но в точке, теряя число измерений, сходятся кольца боя.
Мир исчез, время почти уничтожено; в этот момент здесь «появляется» Пьер.
Толстому нетрудно описать сцены на Курганной батарее. Он сам артиллерист; ему знакомо это странное удаление, когда наблюдатель как будто в центре события, и одновременно отнесен от него на расстояние выстрела.
На самом деле наблюдатель расположен гораздо дальше: Пьер в 1820 году, Толстой в 1867, мы с вами в другом веке. Но вот на батарее «является» Пьер, и все как будто переворачивается вверх дном. Самый нелепый из всех возможных, «нулевой» персонаж попадает в эпицентр события, ноль времени, и внезапно оказывается здесь уместен.
На Курганной батарее мы все нелепы.
Но именно поэтому мы сию секунду там , и ясно переданное Толстым ощущение нелепости происходящего только подтверждает наше невероятное присутствие на батарее.
Вся эта мешанина странностей и невозможностей, просыпанных арифметической дробью, положенной поверх метафизической картины взаимоотторжения стихий, — весь этот хаос, который по мере развертывания боя только нарастает, сообщает нам все больше уверенности, что мы там . Не за книгой, не за картами, не здесь, но там.
Мы оказываемся в центре хаоса, хотя по определению у него не может быть центра.
Нет, он есть: каждый из нас центр этого хаоса, потому что он в нас. И вот он достигает предела в тот момент, когда картина происходящего на поле боя совпадает с нашим внутренним ощущением распада ввиду этой схватки стихий, лобового столкновения миров, всей этой тотальной, противучеловеческой бойни — в этот момент ткань времени рвется, расходятся шестерни календаря, самое время исчезает, заканчивается история и отменяется жизнь.
М ежвременье (сентября) сходит на русского человека, и этот человек, как разумная комбинация во времени, как дитя календаря, исчезает, отменяется, уступая место игре внеисторических стихий. Он обессмыслен, лишен воли и самого своего «Я».
Так заканчивается первая часть толстовской пьесы о погибели и воскрешении Москвы в сентябре 12-го года. Эта первая часть есть еще история, прежняя история, сохраняющая (постепенно, по мере боя теряющая) связный рисунок.
Время было п ространством — до сражения; затем оно стало плоскостью — диспозицией, картиной расположения войск; затем эта бумажная плоскость сошлась в линию огня, затем эта линия сжалась в точку Курганной батареи, и в этой точке исчез, превратился в ноль, нелепость весь вчерашний мир. Он стал хаосом, минус-пространством, душевною дырой, небытием.
В этот момент (прежняя) Москва исчезает и начинается второй акт мирообразующей толстовской пьесы.
Между войной и миром
Второй акт есть хаотически растянутое мгновение, буква «и» между словами война и мир , за которой открывается бездна межвременья.
В сентябре 1812-го года эта буква, это мгновение, разделяющее состояния мира и войны, внезапно расходится вширь, отворяя в истории пропасть шириной в две недели.
И в эту пропасть валится сама слитная история, с нею логика, составленный из разно верующих частей человек (Пьер Безухов, Лев Толстой) и, как средоточие его понимания времени, слитной истории, логики, этики, как представление об идеальном пространстве и времени, в эту пропасть валится Москва.
Второй акт сентябрьской пьесы Толстого рассказывает о метафизическом (календарном) провале Москвы, победе хаоса, приходе безвременья, смуты и Кумохи, распаде времен и отмене русской истории.
Начало второго акта датируется весьма точно: 2 часа дня 26 августа 1812 года. В этот момент русские войска оказываются сбиты со своих «меридиональных» позиций, они отступают назад — всего на шаг — и точно валятся в яму, в хаос и ничто. Не в лес, а вниз; встают на одном месте и более не двигаются. Наступает пауза, о которой мы стараемся не думать, никак не толковать ее, но только удаляться от нее туда, где ожидается конец сентябрьской пьесы: в Москву, в огонь пожара. Между тем очень важно именно то, что происходит сейчас, начиная с двух часов дня 26 августа.
Начинается распад, сентябрьский пересменок времени. Эта пауза меж двух эпох длится до начала пожара Москвы.
Я подозреваю, что Толстого более всего интересует этот второй акт пьесы, положение между времен , тот кратер, отверстие в ничто, куда он запускает Пьера, — посмотреть, что такое это ничто.
Должно увидеть и понять, как мы проиграли Бородинское сражение. «Наблюдение» Пьера должно объяснить Толстому (а он объяснит нам), почему мы проиграли Бородинское сражение.
Не потому что были сбиты с позиции, отступили — только не побежали, как до того все бежали с поля боя перед Наполеоном. Проиграли, потому что исчезли все наши «Я» и «мы» , и вместо русского войска и самого русского человека явился хаос, отсутствие воли и того духа, который, согласно Толстому, один выигрывает сражения.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: