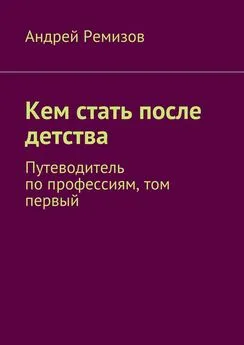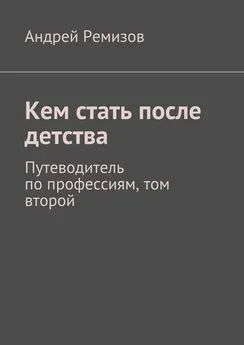Андрей Балдин - Московские праздные дни: Метафизический путеводитель по столице и ее календарю
- Название:Московские праздные дни: Метафизический путеводитель по столице и ее календарю
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Астрель, Олимп
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978-5-271-23741-6, 978-5-7390-2341-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Балдин - Московские праздные дни: Метафизический путеводитель по столице и ее календарю краткое содержание
Литература, посвященная метафизике Москвы, начинается. Странно: метафизика, например, Петербурга — это уже целый корпус книг и эссе, особая часть которого — метафизическое краеведение. Между тем “петербурговедение” — слово ясное: знание города Петра; святого Петра; камня. А “москвоведение”? — знание Москвы, и только: имя города необъяснимо. Это как если бы в слове “астрономия” мы знали лишь значение второго корня. Получилась бы наука поименованья астр — красивая, японистая садоводческая дисциплина. Москвоведение — веденье неведомого, говорение о несказуемом, наука некой тайны. Вот почему странно, что метафизика до сих пор не прилагалась к нему. Книга Андрея Балдина “Московские праздные дни” рискует стать первой, стать, в самом деле, “А” и “Б” метафизического москвоведения. Не катехизисом, конечно, — слишком эссеистичен, индивидуален взгляд, и таких книг-взглядов должно быть только больше. Но ясно, что балдинский взгляд на предмет — из круга календаря — останется в такой литературе если не самым странным, то, пожалуй, самым трудным.
Эта книга ведет читателя в одно из самых необычных путешествий по Москве - по кругу московских праздников, старых и новых, больших и малых, светских, церковных и народных. Праздничный календарь полон разнообразных сведений: об ее прошлом и настоящем, о характере, привычках и чудачествах ее жителей, об архитектуре и метафизике древнего города, об исторически сложившемся противостоянии Москвы и Петербурга и еще о многом, многом другом. В календаре, как в зеркале, отражается Москва. Порой перед этим зеркалом она себя приукрашивает: в календаре часто попадаются сказки, выдумки и мифы, сочиненные самими горожанами. От этого путешествие по московскому времени делается еще интереснее. Под москвоведческим углом зрения совершенно неожиданно высвечиваются некоторые аспекты творчества таких национальных гениев, как Пушкин и Толстой.
Московские праздные дни: Метафизический путеводитель по столице и ее календарю - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Москва находится не столько в реальном пространстве, сколько в воображаемом, том именно загадываемом на Николу будущем помещении (времени). Все это было наполовину угадано, наполовину рассчитано Толстым. Поверив ему, новая Москва с головой окунается в никольскую веру.
Подводя некоторые итоги, можно сказать так: это праздничное явление — поклонение Москвы Николе — нельзя назвать в строгом смысле слова христианским. Тем более что три яснополянских Николая и с ними меньшой Лев, выдумавшие общими усилиями такой праздник, были те еще христиане.
Поклонение Москвы Николе разновозрастно и синкретично. Его невозможно уложить в рамки христианской веры. Это Никольщина , вера Москвы в «бога времени», северного, бородатого, заиндевелого Кроноса.
Кстати, Толстой похож на Кроноса. Он без труда помещается в рамки характерного никольского образа: он добр (мы веруем, что он добр), бородат и всесилен.
Никольский образ воистину бессмертен: в безбожные большевицкие времена он обозначился как Дед Мороз. Московский Никола оказался сильнее большевиков — ничего удивительного, если он прежде большевиков, прежде всех, прежде самого времени.
В романе-календаре Никольский праздник встает в самом конце книги (одновременно в начале: с него начинается тотальное воспоминание Пьера). Таково нехитрое, но весьма действенное композиционное чудо Толстого.
В «пространстве» года это точка, в которой вчерашнее ничто, тьма уходящего года, достигнув своего предела, готова (через предел) перелиться в свет.
«Пророчество» Толстого для Москвы действенно; он растит ее время изнутри , разворачивая мгновение романом. Пушкин видит ее извне : веселит, развлекает рифмами; от его картин она не меняется. Глядя на нее, он меняется сам.
Разбор Николы представляет собой важнейший предновогодний сюжет. Первое, о чем он свидетельствует: для Москвы важнее всего ее идеальное положение во времени. Этот «чертеж» для нее главный. Этому она учится три предновогодних месяца, отыскивая свое наилучшее положение, утраченное на Покров.
Время поздней осенью течет как будто вне Москвы — ей нужно вернуться во время.
Наконец ее учеба закончена. «Нулевой», подготовительный сезон, который Москва начинает после Покрова, завершается. Его главной драмой было исчезновение света (времени). На Покров свет ушел под покров. Сокровенное помещение Москвы сделалось невидимо.
От этой потери октябрь как будто наклонен; по его спуску Москва катится в чашу ноября, на дно года. Здесь она занимает самое нижнее положение, когда, точно молнией, ее проницает невидимый меридиан, ось ординат, сообщающая Москве о ее верхе и низе, о погибели и спасении. Ноябрь: время подвига в темноте, в безвременьи.
За ним приходит декабрь, который весь есть постепенное возвышение над прорвой «Москводна», обещание (пророчество) о грядущем пространстве жизни. Таков геометрический — не самый сложный: вниз и вверх — сценарий этой части года.
Теперь предмет Москвы (сфера времени) готов себя обнаружить; найден ключевой никольский момент, который проживается в предельном сосредоточении и загадывании будущего, когда помещение следующего года является нашему мысленному взору единой замкнутой фигурой.
Определен сквозной сюжет, за которым праздная Москва будет следить на протяжении всего предстоящего года. Это сюжет самооформления во времени.
Человек Москва в канун Николы пророчествует о Москве как о храме, округлом теле времени; в этой идеальной Москве он намерен провести и отпраздновать следующий год — зачем же год? всю жизнь, вечность. В этом помещении времени им видится возможность спасения. От чего? От времени внешнего, иного, от тьмы и хаоса, от равнодушного пространства, в котором растворена смерть.
Так постепенно вырисовывается сотериологический сюжет, сюжет спасения, существенно важный для Москвы. Она сама и ее обитатели уверены, что именно в ее пределах время течет верно (по кругу, скажем, Садового кольца). На этом фоне значение ее календаря двояко. В нем скрыто заключен сюжет непрерывного и многотрудного строительства (города-храма), и одновременно этот календарь отчетливо призывает к праздности — по нему рассеян сияющий сонм праздников. Видимо, так: московский календарь призывает к трудной праздности.
Его свободные от суеты, не похожие один на другой праздные дни суть рецепты большого строительства (Москвы во времени). В процессе их поэтапного проведения возводится город-календарь, завернутый в «узловатую», узорчатую ткань праздников.
Уроки геометрии закончены — что такое были эти уроки? упражнения в темноте, с темнотой. Главный из этих уроков: вовремя загадать (попросить у всесильного Николы) подарок, новогоднее чудо. Строго говоря, Москва учиться не любит, тем более столь отвлеченным, химерическим предметам, как черчение во тьме и строительство в пустоте. Эти науки она постигает интуитивно, мгновенно.
Вот еще один повод для Москвы любить Николу: этот ученый дед все готов совершить в одно мгновение.
Зачем учиться, когда пришел Никола? Он все заранее за нас выучил. Хватит бороться с темнотой и различать невидимое: на носу Новый год.
Наступило время первого большого праздника.,
Вторая часть
От Рождества до Пасхи
Глава пятая
Рождество и Святки
Рождество — 19 января
— Его описание бессмысленно — Много звезд, много ягод (день умножен) — Романкалендарь. (Рождество) — Феоктистов и фейерверк — Два Петра — Звезда и звук — Святки — Кружева и запятые — Роман-календарь. (Святки) — Народные гадания — Крещение воды —
Описание новогоднего праздника имеет мало смысла. По идее, тут нет чуда: праздник является точно в срок, всем известен, для всех примерно одинаков: елка, игрушки, гирлянды, звезда наверху, подарки внизу, хвойный запах, бенгальские огни, ведрами салат оливье, шампанское, телевизор со Спасской башней и замирающими на каждом ударе курантами. И все же это сущее чудо; мы веруем — тут лучше сказать верим, — что сию секунду, когда на Спасской башне ударят в шестой раз, время потечет заново.
Это неописуемо и необъяснимо, это прежде всякой мысли — вера в новое начало.
Кто-то считает до двенадцатого раза и так же свято верит, что тут и есть начало времени.
Это ощущение мгновенно: в нас поселяется время; эти первые секунды (кому повезет — часы, которые он проведет до сна) мы живем с ним синхронно. Мы и есть время. Оно вернулось — вышло из-под Покрова, вернулось в Москву и совпало с ней. Такой миг совпадения, совершенного единства с временем в году всего один: вот он, сопровождаемый звонами бокала о бокал. Только в этот момент сей звон означает много большее, нежели простую здравицу: мы пьем время, мы играем в его начало. Звуки его «начальны», дробны, они не сумма, но каждый по одному.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: