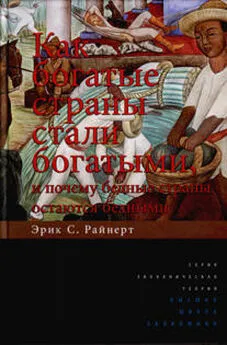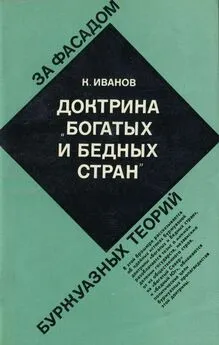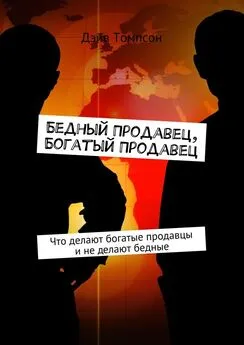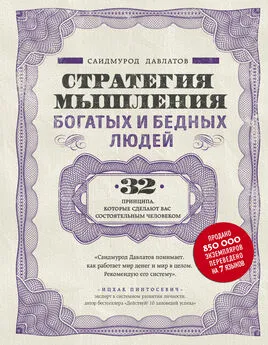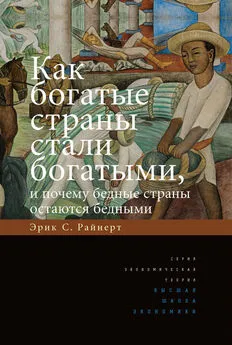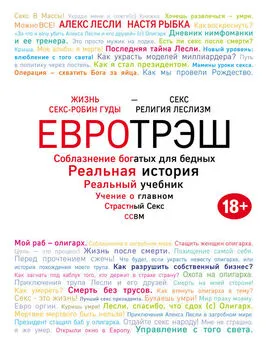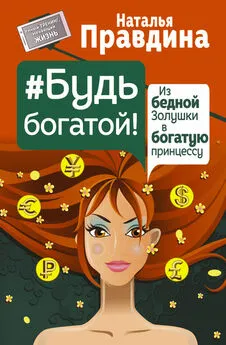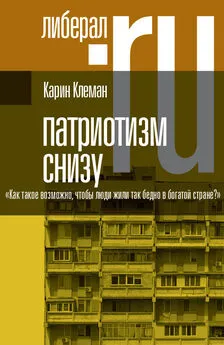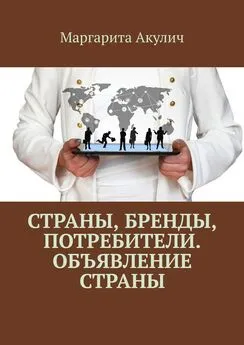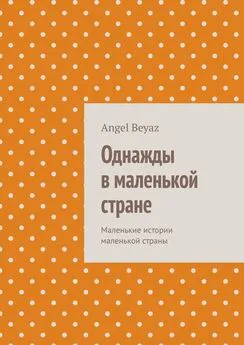Эрик Райнерт - Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными
- Название:Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательский дом Государственного университета — Высшей школы экономики
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7598-0816-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Эрик Райнерт - Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными краткое содержание
Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными (How Rich Countries Got Rich… and Why Poor Countries Stay Poor by Erik S. Reinert).
В настоящей книге известный норвежский экономист Эрик Райнерт показывает, что богатые страны стали богатыми благодаря сочетанию государственного вмешательства, протекционизма и стратегических инвестиций, а не благодаря свободной торговле. По утверждению автора, именно такая политика была залогом успешного экономического развития, начиная с Италии эпохи Возрождения и заканчивая сегодняшними странами Юго-Восточной Азии. Показывая, что современные экономисты игнорируют этот подход, настаивая и на важности свободной торговли, Райнерт объясняет это ним расколом в экономической науке между континентально-европейской традицией, ориентированной на комплексную государственную политику, с одной стороны, и англо-американской, ориентированной на свободную торговлю, — с другой.
Написанная доступным языком, книга представляет интерес не только для специалистов по экономической истории и теории, но и для широкого круга читателей.
Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
К несчастью для бедных стран, история сложилась так, что экономическая наука утратила Зомбартово понимание капитализма. Смит лишил экономическую науку понятия производства, объединив торговлю и производство в общее понятие трудочасов. Поэтому когда мировую экономику стали понимать как систему, в которой все обмениваются неопределенными трудочасами в отсутствие технологий, экономии на масштабах производства и синергии, т. е. работой, которую все выполняют одинаковым образом, ничто не помешало экономистам сделать вывод, что свободная торговля принесет выгоду всем. Капитализм невозможно создать, даже добавив к трудочасам капитал. И тем не менее долгое время американским и континентальным экономистам, таким как Зомбарт, удавалось поддерживать альтернативную экономическую традицию с центральным понятием производства.
Форма, которую экономическая наука приняла после Второй мировой войны, обнаружила слабости теории Адама Смита. По мере того как в послевоенный период экономисты отказывались от непредвзятого здравого смысла ради самоотносимых моделей, экономическая наука все более обращалась на себя. Поскольку движущие силы капитализма, в понимании Зомбарта, плохо укладывались в новую форму, т. е. с трудом сводились к цифрам и знакам, они были просто отброшены. Экономическая наука в очередной раз пошла путем наименьшего математического сопротивления, удаляясь от релевантности. Как и в случае с кровопусканием, от упрощенных моделей пострадали бедные и слабые. Вместо того чтобы изъясняться на родных языках, экономисты перешли на математический язык и утратили ключевые качественные элементы своей науки. Экономическая наука отдалилась от гуманитарных дисциплин (таких как социология) и приблизилась к физике, считая, что это повысит ее престиж. Однако экономисты продолжали-таки пользоваться моделью равновесия, от которой сами физики отказались еще в 1930-е годы. Постепенно экономисты утратили прежнюю свободу владения теоретическими моделями и реальным миром, которая позволяла им корректировать очевидные ошибки в моделях [124] Этот переход хорошо объясняют в: From Interwar Pluralism to Postwar Neoclassicism / Mary S. Morgan, Malcolm Rutherford (eds). Durham, 1998.
. Жертвами перемен стали дальние страны и расы, лишенные политической власти; в США политики зорко следили за тем, чтобы ни одна теория, идущая против интересов их страны, не претворялась в жизнь. Прагматизм царствовал «дома», а высокая теория — за границей.
Добавив к этому общее незнание истории, мы получим явление, которое Торстейн Веблен называл порчей инстинктов : полученное экономистами не применимое к реальной жизни образование приводит к невозможности принять то, что называется здравым смыслом. В 1991 году комиссия Американской экономической ассоциации пожаловалась [125] Report on the Commission on Graduate Education in Economics // Journal of Economic Literature. 1991. September.
, что университеты выпускают из своих стен слишком много «ученых идиотов». «Учебные программы по экономической науке воспитывают поколение idiots savants , подкованных в методологическом плане, но не искушенных в отношении реальных экономических проблем» [126] Я не хочу сказать, что такие люди встречаются только среди экономистов. «Мир полон идиотов с высоким коэффициентом интеллекта», — пишет антрополог Клиффорд Гирц, цитируя Сола Беллоу ( Geerfz . Local Knowledge. Further Essays in Interpretive Anthropology. Basic Books. New York, 1983. P. 76). Однако только в экономической науке система стимулов и вознаграждений устроена так, что фактические знания в ней имеют крайне низкий престиж.
. Согласно докладу комиссии, выпускники одного из неназванных ведущих университетов не смогли объяснить, почему зарплата парикмахера с годами возросла, но с легкостью решали двухсекторную модель общего равновесия с абстрактным техническим прогрессом в одном из секторов. Речь в докладе шла как раз о том поколении экономистов, которому мировые финансовые организации поручили курировать развивающиеся страны.
Оказалось, что самые основные элементы экономического инструментария — предпринимательство и инициативу, государственную политику и промышленную систему, состоящую из технологического развития и инноваций, синергии и экономии на масштабах производства — невозможно свести к цифрам и символам. Количественно можно выразить только факторы, которые Зомбарт считал дополнительными, — капитал, рынки и человеческий труд. Тогда неоклассические экономисты, как строгие формалисты, перестали изучать движущие силы капитализма и сосредоточились на дополнительных факторах. Как обычно, прошло некоторое время, прежде чем изменения в теории отразились в практической политике. Это произошло вскоре после падения Берлинской стены. Интересно, что в книге, написанной в защиту глобализации, Мартин Вольф упоминает Вернера Зомбарта, но только ради того, чтобы заклеймить его как марксиста и фашиста одновременно [127] Wolf Martin . Why Globalization Works. New Haven, 2004. P. 125.
.
Итак, теория пришла к тому, что Шумпетер назвал «плоским мнением, что двигателем капитализма является капитал», Запад посчитал, что, направляя капитал в бедную страну, где нет ни предпринимательства, ни государственной политики, ни промышленной системы, он сможет построить капитализм. Сегодня мы заваливаем деньгами страны, в которых нет производственной структуры, пригодной для инвестирования, потому что им запрещено проводить промышленную политику, которую в свое время использовали все богатые страны. Развивающие страны получают займы, которые они не могут выгодно употребить. Процесс кредитования развития становится похожим на рассылку «писем счастья» или на построение пирамидки из кубиков [128] Kregel Jan . External Financing for Development and International Financial Stability. Geneva, 2004.
. Рано или поздно система рушится, и те, кто ее придумал, неплохо на этом зарабатывают, а сами бедные страны оказываются в проигрыше. Это выходная часть механизма: мощный денежный поток течет из бедных стран в богатые — один из эффектов «обратной волны» бедности, о которых писал Гуннар Мюрдаль.
Стоит обратить внимание на то, что, по определению Зомбарта, сельское хозяйство не являлось частью капитализма. В колонии капитализм не допускали (основной признак колонии — отсутствие в ней обрабатывающей промышленности), поэтому они были обречены на бедность. Исходя из Зомбартова определения капитализма, мы можем так сформулировать проблему бедности: Африка и другие бедные страны бедны, потому что им отрезаны либо не даны возможности развивать капитализм как систему производства.
Ни в одном из двух определений, данных капитализму в период холодной войны, нет факторов, которые Зомбарт считает его движущей силой. В либеральном определении нет ни предпринимателя, ни государства, ни динамичных государственных институтов, ни технологического прогресса, т. е. механизации. Это определение, наследуя ошибку Адама Смита, описывает капитализм как систему торговли, а не как систему производства, и концентрируется на том, как рынок координирует уже произведенные продукты на обмене, а не на производстве. Марксово определение концентрирует внимание на том, кто владеет средствами производства. Получается, что враждующие стороны (и либералы, и марксисты) одинаково не включают в понятие капитализма ни предпринимателя, ни государство, ни производственный процесс. У древней (куда более древней, чем либерализм Адама Смита и Давида Рикардо) экономической традиции Другого канона, которой принадлежит Зомбарт, не осталось сторонников после Второй мировой войны.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: