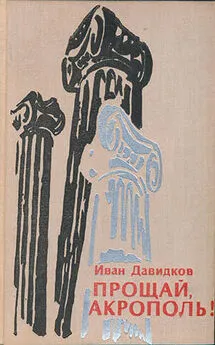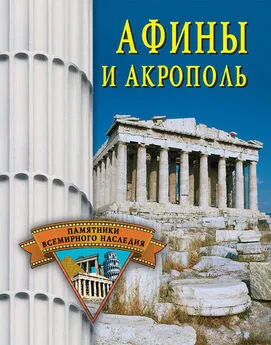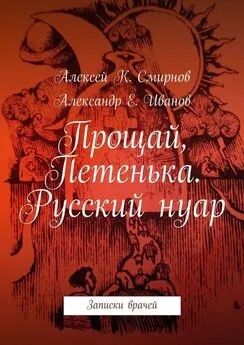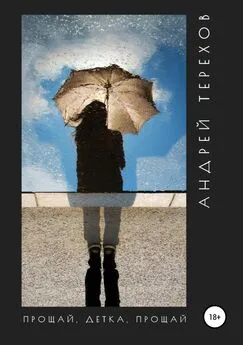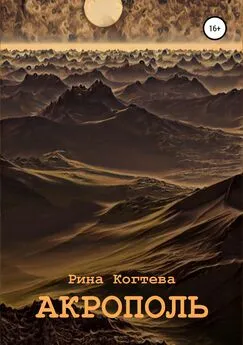Иван Давидков - Прощай, Акрополь!
- Название:Прощай, Акрополь!
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Прогресс
- Год:1978
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иван Давидков - Прощай, Акрополь! краткое содержание
В книгу вошли три повести, объединенные общей темой и проблематикой. Тема эта разрабатывается писателем как бы в развитии: лирические воспоминания главного героя о детстве и юности, глубокие философские размышления престарелого художника о миссии творца, о роли а месте искусства в жизни современного человека.
Прощай, Акрополь! - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Дедушка приезжал к нам в Живовцы молоть зерно; а под вечер, собравшись в обратный путь, сажал меня в телегу, и мы переправлялись через Огосту.
Привалившись к мешкам, я слушал, как скрежещут под ободьями колес камешки на дне брода, либо смотрел, как над оранжевыми от закатных лучей заводями прыгают — тоже оранжевыми — усачи и прячутся, тускнея, в вечерней реке…
Я знал, что телега привезет меня в привычный мир, где блеют ягнята, а под старой лозой, грозди которой выпиты осами, звучат шаги бабушки Марии. В ожидании гостя она зарезала цыпленка. Нагибаясь поцеловать ее сморщенную руку в сетке вздутых вен, я почувствую запах мокрых куриных перьев, увижу в очаге закопченную кастрюлю, крышка ее подрагивает, роняя пену на шипящие угли.
Художник ничего об этом не знал. Он лишь теперь открывал для себя этот край и восхищался им, не подозревая о том, что темно–красные холмы, поросшие виноградом и персиковыми деревьями, — частица моего существа, что я могу поведать много такого, что согреет ему душу в его последнем изгнании.
Я мог бы, например, рассказать ему о дедушкином погребе, где вдоль каменных стен стояли строем бочки с большущими скрипучими кранами. Темные дубовые стропила — такие толстые, что даже дедушке не обхватить их руками, — покривились от времени, и в их трещинах прятались огромные пауки, а сверху нежились в пыли крысы — самих их было не видно, только торчали острые серые хвосты. Кошки боялись крыс и носа не смели сунуть в погреб. Лишь одна отваживалась потревожить их покой. Она кидалась на облюбованную жертву, стаскивала вниз, опрокидывала на спину и, вцепившись ей в шею зубами, когтями раздирала брюхо… После каждого такого поединка крысы разбегались, и — я спускался в погреб поиграть.
Мне нравилось забираться в громадную бочку, занимавшую половину всего помещения. Верней сказать, я не сам туда забирался, дедушка поднимал меня вверх, а затем опускал в огромное отверстие, величиной с окно нашей кухни. Я стучал по гудящим клепкам, пахнувшим выветрившимся вином и виноградными листьями, карабкался по выгнутой стенке — почти как мотоциклисты в ярмарочном балагане, — соскальзывал, падал, а дедушка слушал мои радостные гулкие крики.
Смешно, конечно. Но я и сейчас еще живо помню восторг, который я испытывал в темном чреве бочки, откуда мне видна была макушка тополя и кирпичная труба соседского дома.
Когда я получил от художника первое письмо и узнал, что он живет в доме престарелых, в двух шагах от дедушкиного дома, мне нестерпимо захотелось поехать туда, вместе проведать уже обветшалый, наверно, домишко, показать клепки давно разобранной бочки — эти обломки моих детских восторгов валяются теперь в сарае. Я знал, что моему старому другу тоже когда–то довелось испытать подобные чувства, и это вернет его к милым, сладким воспоминаниям.
Увы, я приехал лишь тогда, когда наша встреча стала уже невозможной…
Под вечер обитатели дома сходились к лавочкам вдоль цементной дорожки, каждый садился на свое постоянное место, как будто оно было строго за ним закреплено, и начиналась беседа.
То были их странствия — мучительно долгие или краткие и легкие, как шорохи летучей мыши над стрехой… Чтобы пролетевшая жизнь не казалась такой уж пустой, они выдумывали разные случаи либо же беспощадно раскрывали душу, и она, прозрачная и беззащитная, как слеза, трепетала от дыханья вечернего ветерка. Десятилетиями хранившиеся тайны, прятавшаяся за улыбкой неприязнь — все всплывало наружу, росло, как бугорок земли возле кротовьей норы, и под этим зыбким бугорком безмолвно шевелилась совесть.
Не может человек долго хранить тайну. Он охотно принимает ее, даже гордится оказанным доверием, но вскоре чувствует, что она щекочет, как попавший в ботинок камешек, либо — если тайна упрятана глубоко в сердце — ее металлические края начинают царапать и появляется терпкий вкус ржавчины: ведь тайна не из благородного металла, и время безжалостно разъедает ее.
Только очень сильным удается пронести тайну через всю свою жизнь… Эти люди обычно фанатики, посвятившие себя одной всепоглощающей идее, и даже при расстреле пуля отлетает от глубоко упрятанной тайны, будто натолкнувшись на непробиваемую броню.
Обыкновенные люди лишены такой силы. Они рассказывают, чтобы сбросить с себя бремя тайны, воспоминаний, и тогда у них светлеет на душе…
Художник знал жизнь всех, с кем он коротал свои дни в этом доме за высокой проволочной оградой, где росли грушевые деревья, в янтарные плоды которых со свистом впивались осы. Будь он писателем, он мог бы обстоятельно поведать об их жизни, потому что судьба каждого из них — законченный роман. Но ему были подвластны только краски. А краски не обладают мощью слов… Слово как речная галька — под ней проберется и невидимая рыбешка, и тень от горы, и рев ветра, дующего в поднебесье. Краскам труднее передать многообразие бытия.
Он вспомнил последние дни своего отца.
Этого статного, веселого и общительного человека сразил рак, и от него осталась лишь тень, укрытая перкалевой простыней. Отцу дали палку — отгонять мух, но у него не было сил шевельнуть рукой, и мухи ползали по нему, как по неодушевленному предмету. Он угасал медленно, в полном сознании — и говорил… Пересохшим горлом. Губами, белыми от сжигавшего их огня… Рассказывал… Вспоминал остров Тасос, куда попал военнопленным после первой мировой войны; женщин, которых любил — в рыбачьих хижинах, на скользкой шевелящейся рыбе. Рассказывал, не стесняясь сына. Облизывал потрескавшиеся от жара губы и говорил, говорил…
Вспоминая эти часы, художник спрашивал себя, что побуждало отца так мучительно рыться в минувшем. Наверно, человек, прощаясь с жизнью, жаждет освободиться от гнета воспоминаний, ибо этот гнет нестерпимо терзает сердце…
Каждый в свой час упирается в эту истину, как в глухую стену.
Час художника еще не пробил, но близился. Так же, как близился час окружавших его людей.
Он знал: человек возвращается к оставленным позади годам не для того, чтобы обозревать их глазами путника, присевшего у обочины дать отдых усталым мокрым ногам. Человек перебирает в памяти свою жизнь, прощупывает ее, как рука врача прощупывает тело больного, ловит пульс, ищет тайное гнездо боли.
Затворившись в стенах старческого приюта, окруженный стираными простынями, звякающими алюминиевыми мисками, из которых вздымается пар приправленной чабрецом похлебки, избавленный от тревог и забот прежних дней, лишенный привычного занятия, пусть наитягчайшего, но с которым он свыкся, как лошадь свыкается с хомутом, человек вдруг оказывается в вакууме. В прежние годы он мечтал зашвырнуть подальше орудия, с помощью которых добывал свой горький хлеб, обрести полную свободу, не думать о работе, обязанностях, долге. Это казалось ему счастьем. А теперь понимает, что тяжкий повседневный труд врос в него, придал ритм его походке, его Дыханию — и вне труда душа недомогает, томится.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: