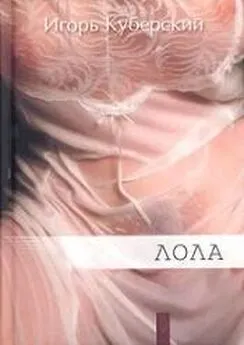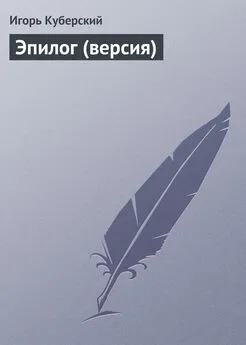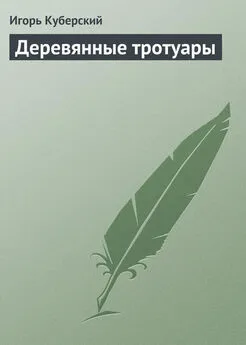Игорь Куберский - Портрет Иветты
- Название:Портрет Иветты
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Куберский - Портрет Иветты краткое содержание
Произведения известного петербургского прозаика, поэта и переводчика Игоря Куберского, написанные им в последние годы, посвящены теме любви и эротике. Испытание духа и плоти, роковой поединок, из которого не всегда выходят живым - такой предстает любовь в увлекательных текстах этого наследника литературных традиций Ивана Бунина, Владимира Набокова, Юрия Казакова.
Искусность автора в изложении любовной тематики побуждает нас считать его творчество неким эталоном эротической прозы в современной отечественной литературе. И подобно тому, как температуру окружающей среды у нас принято измерять в градусах Цельсия, степень литературного эротизма можно было бы измерять в Куберах.
Истории всепоглощающей любовной страсти, которая может стать разрушительной, посвящена впервые издаваемая повесть «Портрет Иветты» и ее «Эпилог» в одной из версий.
Портрет Иветты - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– Не помешаю?
– Фу, холодная! – поежилась она.
– Снег на дворе.
– Я видела. Ерунда. Растает.
От нее пахло чудесным ребячьим запахом.
– Ты что такая худая? – сказал он. – Ешь, ешь... И загар сошел.
– Не сошел, смотри... – она откинула одеяло и, словно вспомнив что-то, неловко подтянула ночную сорочку ровно до незагорелой полоски.
– Ты меня уже стесняешься?
– Угу... Совсем немножко. Почитаешь?
– А что у тебя?
– Робинзон Крузо. Знаешь, какая книга! Здоровски написана. Хоть немножко, а?
– Давай.
Он взял книгу.
– Ты Иветту вспоминаешь?
– Да.
– Помнишь, ты говорила, что ее любишь.
– Говорила.
– И сейчас любишь?
– Не-а. Просто вспоминаю. Я тебя люблю. Иди ко мне, мой маленький, пушистый.
Она протянула к нему свои худенькие длинные руки и не то поцеловала, не то лизнула его в щеку.
– Я вижу, у тебя все пушистые, – сказал он, пытаясь высвободиться, – ежи, черепахи...
– Угу. Маленькие и пушистые. Сиди. Помнишь, мы читали, что, когда ежик рождается, у него вместо иголок перья. Представляю себе... – она захихикала.
Тогда, три года назад, он не мог с ней поговорить.
То, что Настя больше не разделяла его чувства к Иветте, скорее удивило, чем огорчило Кашина, и на какое-то время вернуло его к реальности. Эта зыбкая, но независимая от него реальность позволяла взглянуть на произошедшее со стороны, как, собственно, и положено глядеть художнику. И хотя это ничуть не умеряло боль, картина мира уже не сводилась к черному квадрату на белом фоне – воплощенному ничто. Картина обретала глубину – мерцали не вполне ясные, но обнадеживающие детали. Ведь было же в одном из ее писем: «Сознание безнадежности не мешает нам ожидать». Это высказывание кого-то из великих, как и все подобные высказывания, вполне абсурдное в своей категоричности, обладало-таки побочной анестезией – оно прибавляло к единственному «мне» множественное «нам».
Через полторы недели, прошедшие в молчании, он написал ей веселое, шутливое письмо. Каждое слово в нем было продумано и поставлено так, чтобы скрыть рану – письмо было широким бесшабашным жестом дружбы и безоглядности. И только самый срок в десять дней без писем и телефонных звонков, был сомнительным свидетельством перемен.
Иветта по-своему поняла его великодушие – в ее ответе снова было о Косте, так что у Кашина потемнело в глазах. Он тут же написал ей все, что оставалось под спудом – она сама проткнула пульсирующую пленочку едва затянувшейся боли. Пусть знает, каково ему – жажда, чтобы она знала, была теперь сильнее предусмотрительности. Он писал, что не годится на роль подружки, которой доверяют сердечные тайны. В конце он приписал какие-то вовсе дикие слова о том, что ее постель, насколько он помнит, не рассчитана на троих – полный бред. И пока не передумал, пока было горячо, кроваво – бросил письмо в ящик. Вечером он схватился за голову, но было поздно.
И тогда началось ожидание.
Он ждал ее ответа. Она молчала. Все, что осталось у него, – это ее портрет, так и вернувшийся с выставки незамеченным, и каждый день он подходил к нему, чтобы что-то поправить, пока не обнаружил, что это уже другая Иветта – та, которой больше нельзя было позвонить и от которой не могло быть писем: она смотрела мимо него, и печальные тени у туб и глаз говорили, что произошло что-то непоправимое. Тем обманчивей стала ее поза, естественная только перед любящим, возникшая только под влюбленным взглядом. Во всех его последних портретах проступало это противоречие между позой и выражением лица. Словно жили не так, как думали, и думали не то, что говорили.
Закрытие выставки отметили сборищем. Художники, искусствоведы – в общем, все свои или притворяющиеся своими. Гремели стереоколонки, пробка от шампанского срикошетила от потолка и расколола фарфоровое блюдо. Оно развалилось пополам, разделив бутерброды с черной и красной икрой, и эта нелепая деталь почему-то застряла в голове. За огромным фонарем роскошной чужой мастерской остывала голая пустынная земля, прибитая кое-где нерастаявшим снегом, и параллелепипеды новостройки, положенные набок или поставленные на торец, демонстрировали два единственных архитектурных варианта пространственных отношений. Высокая, увешанная бусами женщина с маленькой восточной головкой, жена успешного хозяина мастерской, которого почему-то не было, полвечера аккуратно обхаживала Кашина и, танцуя с ним, дышала ему в ухо ментоловой жвачкой: «Представляете, я вышла замуж в семнадцать лет...» – намекая на то, что жизнь обделила ее впечатлениями, и что теперь самое время бросить вызов скопидомке-судьбе. Кашин передоверил ее одному приятелю, и на миг чары покинули ее лицо, и стал виден весь недобор этих самых впечатлений, но потом, когда Кашин столкнулся с ней в кругу танцующих, она на равных подмигнула ему своим вновь замерцавшим глазом – судя по всему, приятель оказался более отзывчивым.
В мастерской было много полотен и рисунков – пестрый салат или, точнее, винегрет из трактористов, сталеваров и былинных богатырей. Все были хороши собой, с одинаковыми сливовыми глазами, и свидетельствовали о могучем душевном здоровье автора. Было много церквей в сочных тонах и всякой сусальной истории. Будто сама Россия-матушка, надев цветастый сарафан, вышла на золотое крыльцо. Как в детской считалке: «Царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной...» Лубочный демократизм. Такое многим нравилось и шло как новье. Нет, до этого Кашин никогда не скатится... Сначала принимаешь правила игры, то бишь конъюнктуры, а потом забываешь, что это всего лишь игра. Кажется, что ты прежний, настоящий, а ты уже другой, и ничего-то от прежнего не осталось.
– Как тебе это? – подсел к нему с бокалом вина тот самый, уже слегка подвыпивший приятель, заботам которого Кашин препоручил скучающую жену хозяина мастерской. Тонкий, светлый, с неопределенными движениями, необыкновенно вежливый и тихий, он был похож на свои загадочные, недоговоренные работы в таких же светлых, как он сам, тонах.
– Спроси что-нибудь полегче.
– Все-таки это почти красиво. Хорошие краски, чистые... Я вот думаю – если повесить в детском саду, в школе, детям понравится. Мои так не повесишь. А дети...
– Это развесистая клюква, – перебил его Кашин.
– Нет, старик, ты не прав. И я не прав. Это написано для народа, а не для нас, гнилой интеллигенции. Вспомни Толстого, гений все-таки. Он считал, что для народа нужно переписать всю мировую классику. Ведь так? Народ любит мыльные оперы, индийские фильмы. И если ты художник, ты должен с этим считаться, как это ни грустно... – и он повел возле своих плавающих усталых глаз тонким пальцем, под ногтем которого сидела дужка берлинской лазури.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: