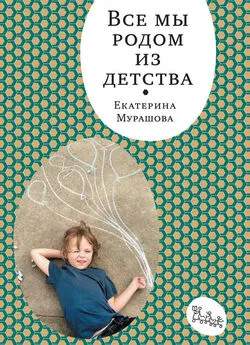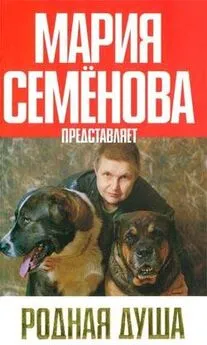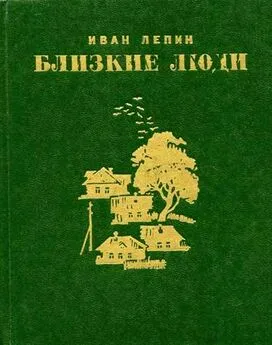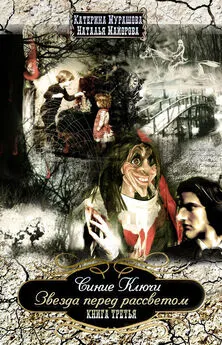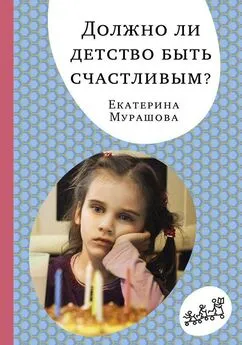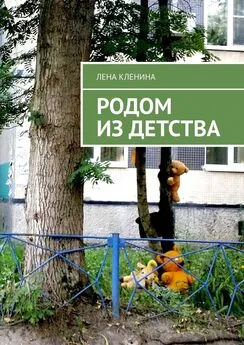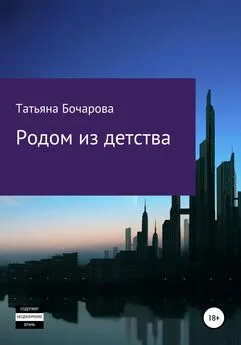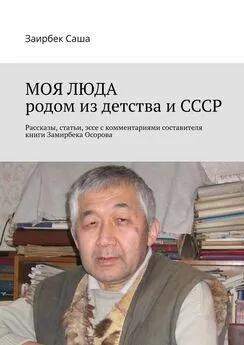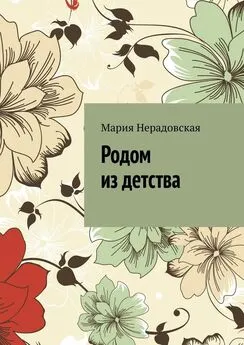Екатерина Мурашова - Все мы родом из детства
- Название:Все мы родом из детства
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Самокат»3b5647f4-1880-11e4-87ee-0025905a0812
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91759-365-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Екатерина Мурашова - Все мы родом из детства краткое содержание
Мир меняется вместе с главными своими координатами – материальным и медийным пространством. Неизменной остается только человеческая природа.
Семейный психолог Екатерина Мурашова вот уже более двадцати лет ведет прием в обычной районной поликлинике Санкт-Петербурга. В этой книге она продолжает делиться непридуманными историями из своей практики. Проблемы, с которыми к ней приходят люди, выглядят порой нерешаемыми. Чтобы им помочь, надо разобраться в целом калейдоскопе обстоятельств самого разного свойства.
И очень часто ей на помощь приходит, помимо профессионального, ее собственный человеческий опыт.
Все мы родом из детства - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Все опрошенные студенты взрослыми себя не признали. Молодые мужчины (даже работающие и живущие отдельно от родительской семьи) тоже не торопились во «взрослость» (тогда как все самостоятельные бездетные молодые женщины оказались во «взрослой» группе). Были объяснения: «Стать взрослым – это остановиться в развитии», «Мне нравится играть», «Мои родители – взрослые люди, я не хочу становиться таким».
Из возрастного, занятного: по данным моего мини-исследования, с 18 до 21 года количество взрослых людей снижается .
И наконец, то ли в качестве курьеза, то ли в качестве информации к размышлению. Как-то я по телефону, в поликлинике и в инете (личными письмами) предложила то же задание семнадцати людям в возрасте от 36 до 54 лет, про которых я была совершенно уверена, что они мой материал и последовавшую дискуссию на «Снобе» не читали.
Девять из них уверенно назвали себя взрослыми, восемь признали, что сомневаются.
Моя рабочая гипотеза: после окончания полового созревания соотношение «взрослых» и «невзрослых» особей в популяции хомо сапиенс не меняется вне зависимости от возраста.
А вы можете назвать себя взрослым, дорогой читатель? И что вы вообще думаете о взрослости? Нужно это или не нужно? Обязательно или необязательно? Хорошо или плохо? Менялось ли как-то это понятие (количественно или качественно) в историческом процессе? И что это вообще такое – «быть взрослым»?
Стать дворником
В первый раз я увидела их вдвоем – отец и сын. Отец выглядел энергичным и искренне встревоженным. Сын – равнодушным. Я почему-то сразу решила, что равнодушие наигранное. Наверное, потому, что возраст сына (на вид лет 13–14) подразумевал подростковые разборки с родителями и их перманентное возмущение тем, что чадо оказалось не таким, как ожидалось, и ведет себя не так, как предписывается родительским опытом.
Поначалу все подтверждало мою первоначальную гипотезу.
– Он прогуливает школу! Представьте, такого здорового парня приходится буквально водить за руку к школьным дверям! Мне самому стыдно, а ему как будто все равно. И все время врет. Причем стоит на своем, даже когда уже уличили. Спекулирует своим здоровьем: утром непременно болит голова или живот. Мать до недавнего времени покупалась, разрешала не ходить в школу, пока я все это не прекратил буквально железной рукой…
– И куда же ты ходишь вместо школы? – спросила я у мальчишки.
Он не успел ответить (да вроде бы и не собирался), снова вступил отец:
– Мы с матерью оба работаем. Он просто возвращается домой и лежит на диване перед телевизором.
– Может, все-таки друзья? Или компьютер? – уточнила я.
– Нет, компьютер давно под паролем. А друзья – они же все в школе.
– Никакой «плохой компании»?
– Нет!
– Что он любит?
– Тупые компьютерные игры! Раньше вроде животных любил, а теперь и за его крысой мать ухаживает. Ничего, только диван! Он мне сам недавно сказал. Я к нему приставал: «Давай пойдешь в какой-нибудь кружок, секцию, спортом займешься, у тебя же сколиоз развивается; или вот компьютер – раз уж он тебе так нравится – давай в какой-нибудь клуб программирования»… Он раньше у нас в музыкальную школу ходил, на шахматы, на дополнительный английский. Всё бросил. И вот… Я ему: «Андрей, так чего же ты вообще хочешь?» Он мне: «Чтобы от меня все отстали и на диване лежать!» А глаза такие тусклые, как у дохлой рыбины…
Вот тут я впервые засомневалась в своих умозаключениях о подростковом кризисе. Всмотрелась в лицо Андрея, и его глаза… действительно показались мне тускловатыми.
Отправила отца в коридор, стала говорить с мальчишкой. Никакого конфликта ни в школе, ни даже дома решительно не выявлялось. Да, в школу ходить и учиться не хочет. И на музыку не хочет (да и не хотелось никогда, родители заставляли). И на шахматы не хочет. И на программирование. И вообще никуда. Не, с родителями никаких конфликтов, просто они пристают, чтобы в школу ходил и уроки делал. Не, он понимает и не обижается на них, они работают много, нервничают, у них ипотека за квартиру…
Депрессия? Я много читала в профессиональных журналах о том, что в развитых странах она стремительно молодеет и буквально становится эпидемией… Выходит, до нас тоже добралось? Или еще что пострашнее депрессии? Ведь вот так именно, нарастающим отсутствием интереса к жизни манифестирует себя простая шизофрения… Мгновенно накрутила себя, сама испугалась своих предположений, быстренько протестировала Андрея простеньким опросником про депрессию – вроде совпадает…
Выгнала в коридор Андрея и очень осторожно, но настойчиво предложила отцу сводить сына к врачу, психоневрологу. Отец, вопреки моим предположениям, слова «депрессия» не испугался, а скорее обрадовался ему.
– Так это, значит, действительно болезнь? Можно таблетками лечить? Вот спасибо, что вы разобрались и сказали, а то мы уж и не знали…
Они ушли, а я осталась в некоторых сомнениях насчет «разобралась». Но тут уж лучше перебдеть…
В следующий раз пришли отец и мать – без Андрея. Я не сразу вспомнила, но потом спрашиваю:
– Как Андрей?
– Все плохо, – отец комкал в сильных пальцах взятую с моего стола головоломку. – Психоневролог сразу прописал таблетки. От них стало только хуже. («Не депрессия!» – поняла я.) Он сначала был совсем заторможенным, а потом стал агрессивным. Нас направили к психиатру – очень хорошему, по отзывам, специалисту, именно по подросткам. Тот сказал, что пока «караул» кричать рано, но кое-что настораживает. Прописал другие препараты. От них Андрей стал явно спокойнее, даже какое-то время без пропусков ходил в школу. А потом вдруг отказался пить таблетки, снова стал прогуливать, а когда мы надавили, стал говорить о самоубийстве, о том, что не хочет жить…
– Ч-черт… – прошипела я. На фоне имеющегося анамнеза угроза суицида вполне реальна. И что я им сейчас скажу?!
– Мы бы хотели… Андрей категорически отказывается ехать в ПНД или Бехтеревку, насильно я его тащить физически не могу, а вот к вам, в поликлинику, согласился (тут я уже было загордилась впечатлением, которое произвела на подростка короткая беседа со мной…) – потому что мы напротив живем и на метро ехать не надо.
– Что ж, приводите.
– Да, – легко подтвердил Андрей. За время, пока мы не виделись, он сильно вытянулся и ссутулился. – Не хочу так жить. Лучше удавиться.
– Как именно – так? – ухватилась я.
Подросток молчал. В этот раз мне показалось, что он не не хочет, а не может, не умеет ответить. И ждет, чтобы я ему возразила. Вспомнив, что когда-то Андрей интересовался животными, я рассказала ему, как работала в цирке шапито, о цирковых людях и еще о смерти слонихи Кроспи в Ленинградском зоопарке, о том, как мы все, даже старый слон Сюн, пытались ее спасти…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: