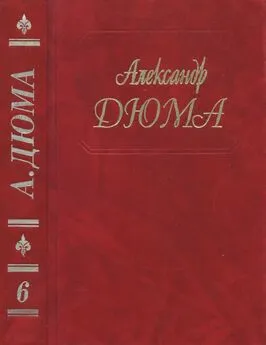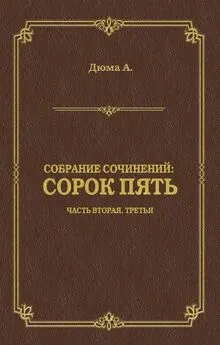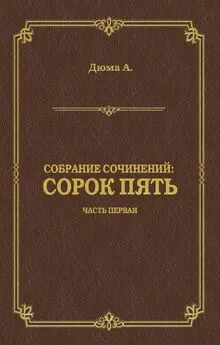Николай Смирнов-Сокольский - Сорок пять лет на эстраде
- Название:Сорок пять лет на эстраде
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Искусство
- Год:1976
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Смирнов-Сокольский - Сорок пять лет на эстраде краткое содержание
В книге собраны фельетоны, статьи и выступления Н.П. Смирнова-Сокольского — одного из основоположников советской эстрады, писателя, библиофила. Большинство эстрадных фельетонов артиста было опубликовано впервые.
Сорок пять лет на эстраде - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Тем более что вряд ли можно найти более веское подтверждение всей справедливости так настойчиво отстаивавшегося им тезиса о неразрывной связи судеб эстрадного фельетона с общими процессами развития сатирической литературы, сатирической печати, комедиографии и, разумеется, прежде всего советского газетно-журнального фельетона, чем собственный творческий путь Смирнова-Сокольского, едва ему посчастливилось открыть для себя этот жанр.
Вспомним дату его первого фельетонного опыта («Всероссийская ноздря»): 1924. И сопоставим это с тем, что лишь в начале 20-х годов на страницах советской периодики начало происходить становление и формирование жанра советского «большого фельетона».
Отойдя от эпиграмматического комментирования того или иного факта и лаконичности словесной карикатуры, неизбежно ограниченной в своем масштабе и глубине проникновения в существо явления, что было характерно для особенно распространенного в нашей печати в 1917–1921 годы «маленького фельетона» (а на эстраде — куплета), советские фельетонисты начинают использовать неизмеримо больший арсенал средств и приемов сатирико-публицистической выразительности. Вслед за создателями советского политического стихотворного фельетона — Демьяном Бедным и Маяковским — на первую линию советского фельетона выходят Михаил Кольцов, дебютировавший в «Правде» в 1922 году, Сосновский, Зорич, Погодин и другие. Уже не сатирическое или юмористическое иллюстрирование или комментирование единичных фактов характеризует их фельетоны, а публицистическое насыщение своеобразного художественного образа и такое столкновение и сопоставление отдельных фактов, когда «малая тема» переключается в план большой социальной проблематики. Все четче вырисовывается обусловленность всей композиции фельетона значительной, далеко идущей мыслью. Возникают и постепенно дифференцируются разнородные типы, виды фельетонов.
Эту школу фельетонного искусства пройдет в дальнейшем и Смирнов-Сокольский, постепенно обогащая свой арсенал и подымаясь со ступени на ступень в создании самостоятельного жанра эстрадного сатирико-публицистического фельетона. Различные этапы этих поисков и проблемы, то и дело возникавшие перед фельетонистом в процессе утверждения нового жанра, достаточно подробно, на характерных примерах отражены в его автобиографических записях и документальной хронике.
Следует оговорить, что работа эта требовала не только неустанной живой инициативы и стремления чутко вслушиваться в голоса окружающей действительности, не только высоты гражданского самосознания, упорного труда над поисками средств художественной выразительности, но и немалого мужества, упорства, принципиальности, несгибаемой верности своей профессии. «Вредный цех», — не раз полушутя говорил он о сатириках. Избранный им жанр далеко не всюду и всегда находил достойную поддержку.
В том же 1920 году, когда журнал «Вестник театра» публиковал призыв Луначарского «Будем смеяться», петроградская «Жизнь искусства» прогнозировала: «После победы, во время строительства должна утихнуть и даже совершенно умолкнуть сатира. Против кого поднимается этот бич? Бичевать поверженных врагов не великодушно, а уничтожать врагов еще несломленных значит уменьшить значение победы. Сатирически же изображать окружающую действительность, хотя бы в ней и были недостатки, — не значит ли это толкать под руку работающего?»
Эта мысль, в различных вариантах, будет еще многократно возникать в дальнейшем на страницах печати. «Нужна ли нам сатира?» — ответ на это пытался дать бурный диспут (так и озаглавленный), происходивший в самые первые дни 1930 года в Политехническом музее. Выступая на этом диспуте, В. Блюм, уже не раз писавший о вредности «сатиры на себя», вновь говорил о несовместимости сатиры с диктатурой пролетариата, поскольку ей «придется поражать свое государство и свою общественность». С отповедью Блюму выступали на этом диспуте и председательствовавший Михаил Кольцов и Владимир Маяковский.
«…В. Маяковский уместно вспомнил вчера, как один из Блюмов долго не хотел печатать в «Известиях» его известного сатирического стихотворения о прозаседавшихся, — читаем в газетном отчете о диспуте. — Стихотворение в конце концов было напечатано. И что же? На него обратил внимание Ленин и, выступая на съезде металлистов, сочувственно цитировал его отдельные строчки. Ленин смотрел на возможность сатиры в советских условиях иначе, чем Блюм».
О том, что сатира нужна, более того — необходима, не раз говорилось в ряде партийных документов, как бы развивавших мысли, высказанные в свое время В. И. Лениным в связи с публикацией стихотворения Маяковского «Прозаседавшиеся».
Весной 1927 года Отдел печати ЦК партии выносит специальное постановление «О сатирико-юмористических журналах», зовущее к преодолению существеннейших недостатков в работе советских сатириков, основным плацдармом которых эти журналы и были. «Большинство сатирико-юмористических журналов не сумело еще стать органами бичующей политической сатиры, направленной против отрицательных сторон нашего строительства, против пережитков старого строя и быта, против предрассудков мещанства, обывательщины и проявлений реакционной отсталости в отдельных частях рабочего класса», — говорилось в этом постановлении, отмечавшем, в частности: «Журналы не ориентируются на массового читателя, они сбиваются на путь приспособления ко вкусам мещанства и новой буржуазии».
Эти упреки в еще большей степени могли быть адресованы эстрадным сатирикам и юмористам, репертуар которым в подавляющем большинстве случаев поставляли наименее квалифицированные и в идейном и в художественном плане авторы, лишь усугублявшие те недостатки, которыми страдала сатирическая периодика.
Практическое преодоление недостатков, отмечавшихся в директивных документах, встречало, однако, ряд затруднений, о чем свидетельствовал и сам факт продолжавшихся дискуссий в печати, где не утихали голоса, ставившие под сомнение политическую целесообразность сатирического жанра. Это нередко давало себя знать и в повседневной практике организаций, руководивших работой эстрадных сатириков и юмористов и корректировавших их репертуар.
«…А рабочий класс все-таки обязан иметь своих мастеров слова романистов, рассказчиков, драматургов, фельетонистов, сатириков и юмористов, работающих для эстрады, откуда необходимо поскорее вышибать старенькую мещанскую пошлость» — так заканчивал Горький в 1929 году свою статью «Рабочий класс должен воспитывать своих мастеров культуры».
Тем большее принципиальное значение имело появление как раз в те годы (1929–1931) таких фельетонов Смирнова-Сокольского, как «Хамим, братцы, хамим!», «Доклад Керенского», «Кругом шестнадцать», «Мишка, верти!». И хоть в ряде случаев от эстрадного фельетониста требовалась немалая энергия и сила убежденности, чтобы отстоять свое право во весь голос говорить о подмеченных им «маленьких недостатках большого механизма», — этих свойств Смирнову-Сокольскому было, на счастье, не занимать. К тому же все более повышавшийся общественный авторитет его сатирических фельетонов, а также активная поддержка таких мастеров советской сатиры, как Маяковский, Демьян Бедный, Михаил Кольцов, помогали, хоть порой и с каким-то уроном, преодолевать препятствия.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:


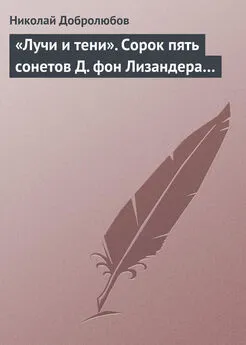
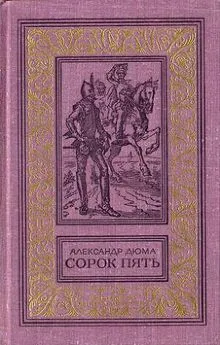
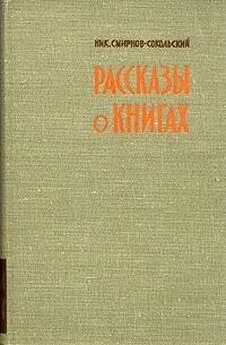
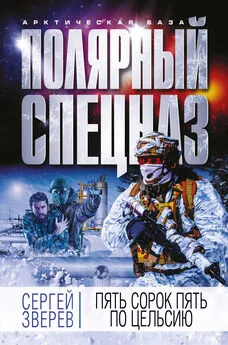
![Николай Смирнов-Сокольский - Нави Волырк [библиографическая повесть об Иване Крылове]](/books/1100434/nikolaj-smirnov.webp)