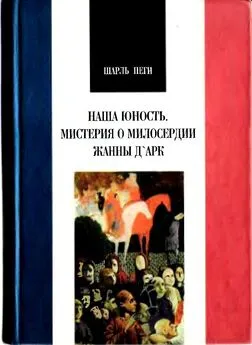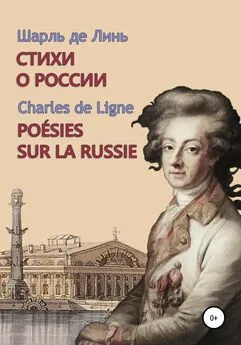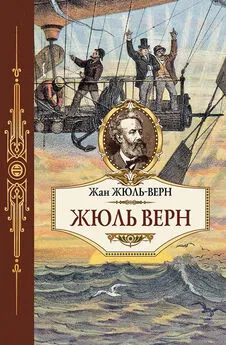Жюль Гонкур - Шарль Демайи
- Название:Шарль Демайи
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жюль Гонкур - Шарль Демайи краткое содержание
«…В этой комнате, которая была конторой редакции газеты „Скандал“, сидело пять человек. У одного были белокурые волосы, небольшой лоб, черные брови и глаза, небольшой нос прямой и мясистый, завитые белокурые усы, маленький рот, чувственные губы и пухлое лицо, обличавшее в молодом человеке наклонность к полноте. Другой был молодой человек лет тридцати четырех, маленький, коренастый, с плечами Венсенского охотника, с налитыми кровью глазами, рыжей бородою и передергивающимся лицом, напоминавший горбуна. Он имел вид хищника мелкой породы…»
Шарль Демайи - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Буароже не был ему незнаком. Он встречал его или вернее сталкивался с ним в конторах маленьких газет. Некоторые даже передавали ему, что Буароже защищал его талант и громко высказывал, что он об нем очень хорошего мнения. Но им не представлялось случая сойтись поближе, выйти из пределов обыденных вежливостей людей полузнакомых. Шарль чувствовал себя счастливым и польщенным тем, что его книга доставила ему уважение поэта. В мире писателей существуют подобные приговоры одного лица, более дорогие и приятные их сознанию, чем приговор толпы: они больно чувствуют его презрение, за то подчас он служит им утешением.
Буароже был по призванию поэт лирический. Трудно найти более краткую обрисовку характера героя. Ничто, современное ему, не волновало его, не трогало, его не интересовали ни биржа, ни публика, ни г-н Журден с его халатом, ни поэзия рабочих, ни новые доктрины, ни поклонение прозе, ни культ пошлости, ни бунт против аристократической формы мысли, против священного языка ученых, ни ярые утопии общедоступности и вульгаризации всего прекрасного, делающие ремесло из искусства, ни книги, нисходящие до читателя, ни чаша избранных, превратившаяся в фонтан вина на публичной площади. Беззаботный, ликующий и восхищенный Буароже, лирой Орфея, готов был изливать душу перед нотариусами и барабанщиками национальной гвардии. Он пел и печали свои и радости; словно Саади, увидевший Олимп, он воспевал розы и богов, опять богов и опять розы! Стихи Буароже отнюдь не наставляли в твердости веры. Точно также он не старался влиять на нравственность масс. Он не мечтал ни об рае, ни об академии… Его поэзия, уснащенная шелковыми парусами, золотыми канатами с экипажем, состоящим из амуров, неслась, подобно галере Клеопатры, не нуждаясь во флаге.
Её моралью была одна любовь, а религией – евангелие Гезиода. Мысль тут улыбалась на золотом ложе. Это была поэзия пурпура и солнца, поэзия беспредельного и величественного пантеизма, легкая как танец прелестной Савской царицы, ослепительная как Индийское море, заколдованное море с волнами из света, с гармоническими приливами, выбрасывающее в беспорядке из своих лазурных сетей лучи, раковины, куски розового мрамора, браслеты, колонны храма, двери сераля, смеющиеся статуи, профили Астарты, коралловые гроты, тень Коломбины, огненных гениев, взгляды, поцелуи, благоухание цветов, рубины, бриллианты и звезды! Их ритм звучал, как падение водяных капель с волос бронзовой Венеры в вилле Брунелески. Светлый апофеоз так и играл среди цветущих стихов. Поэма эта – сон Полифила среди бенгальских огней – была настоящей феерией!
Затем, на оборотной стороне этого волшебного храма, Буароже обращал свое перо в резец и карандаш. На досуге своей крылатой оды он набрасывал в оде шуточной грандиозную и могучую карикатуру, комическую маску какого-нибудь буржуа Фарнезского, эскиз, месть, где выказывались эпические ширина и размах Микель-Анджело.
Буароже жил поэзией. Вынужденный поддерживать свое существование, он решился прибегнуть в журналистике. На его прозу явился спрос и фельетон сделался источником его заработка. Но ни авансы газетных касс, ни успех его прозы не могли заставить его разорвать связь с привычкой к поэтическому творчеству. Хотя он и соединил эти две вещи, различные между собой как пачка табаку и женщина, он возвращался, более чем когда-либо, влюбленный, к родному языку мечтаний. Он уходил весь в себя, переставал различать дни и, по целым неделям, проводил с своей музой, не удостаивая парижское солнце чести взглянуть на него. Он создал себе, таким образом, совершенно условный и сверхъестественный мир, откуда, только с большим трудом, могли его вызвать материальные нужды. Можно подумать, что он считал жизнь за дурную шутку, нечто в роде фарса старого итальянского театра, и что он принимал в ней, время от времени, участие единственно из остатка уважения к человечеству. Этим объяснялась, оправдывалась, быть может, одна невероятная добродетель Буароже, доведенная у него до самой высокой степени, сумасшествие и честь некоторых великих и редких артистических натур, это неизлечимое и врожденное бескорыстие, презрение к деньгам, служащее меркою духовного склада данного лица.
В 1848 году один журнал вздумал воспользоваться его антипатиями к аристократам, чтобы заставить его оскорбить одного трибуна; он взял свою шляпу и оставил банковые билеты.
И с тех пор муза его никогда не касалась существующего правительства. Также конкуренция, следовательно, дешевая продажа низкостей в различных общественных сделках, была вещью, до крайности удивлявшей Буароже.
Вторая струна лиры Буароже, смех его поэтических карикатур, слышался и в его разговоре, имевшем совершенно особую прелесть.
Демон иронии владел его речью. Тонкая и колкая, она вполне гармонировала с его голосом, тоже тонким и резким. Презирая вдохновение на разные случаи и пренебрегая деланным остроумием, так называемым остроумием слов, он блистал лучшим французским остроумием – остроумием идей; игра его жестов, взгляда и физиономии была великолепна; неистощимый в обрисовке картин, подробностей, в мимических изображениях, в характеристике нравственных черт, в передаче коротких, живых разговорных сценок, словно схваченных с натуры, он неподражаемо умел обрисовать, одним словом, характер, книгу, любовь; большое удовольствие доставляло ему, внезапно, в пылу разговора начать воздвигать парадоксы выше Вавилонской башни, или употреблять ужасающие гиперболы, чтобы смутить последователей школы здравого смысла. И все это шутник бросал, создавал и уничтожал одним дуновением.
XXVII
– А, это мило с вашей стороны. Вы держите свое слово… Мели, освободи же кресло и дай его гостю.
Так приветствовал Буароже входящего Шарля. Буароже находился в постели бледный, худой, с бородой, небритой более недели, на голове его красовался небольшой бумажный, в синюю полоску, колпак, какой носят художники на работе, вокруг него на кровати и на ночном столике разложены были книги. Его маленькие, живые, беспокойные глаза бегали по сторонам, как взгляд актера сквозь дырочку занавеса.
Стены комнаты были завешаны театральными костюмами, забрызганными гуашью Баллю, среди которых, как в нише часовни, скрывался портрет женщины. Это было прелестное и вместе с тем печальное лицо, нежный тип не то Зефирины, не то Миньоны, который в своем траурном наряде дагеротипа казался мертвой душой среди всех этих живых, ярких одеяний, украшенных блестками. В камине горел большой огонь. На нем грелась совершенно новая сковорода; возле свежая, полная молодая девушка с шрамом во всю ширину лица, одетая в халате поэта, присматривала за жарившемся цыпленком, опустив на колени роман, вырезанный из какого-то журнала.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: