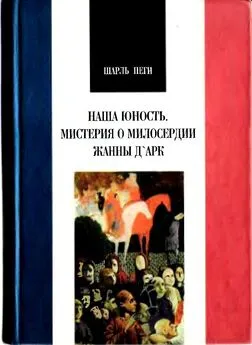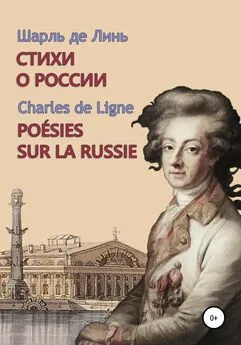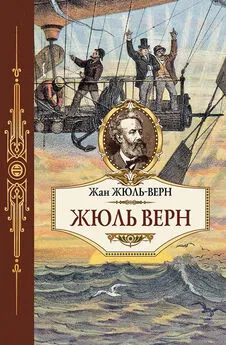Жюль Гонкур - Шарль Демайи
- Название:Шарль Демайи
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жюль Гонкур - Шарль Демайи краткое содержание
«…В этой комнате, которая была конторой редакции газеты „Скандал“, сидело пять человек. У одного были белокурые волосы, небольшой лоб, черные брови и глаза, небольшой нос прямой и мясистый, завитые белокурые усы, маленький рот, чувственные губы и пухлое лицо, обличавшее в молодом человеке наклонность к полноте. Другой был молодой человек лет тридцати четырех, маленький, коренастый, с плечами Венсенского охотника, с налитыми кровью глазами, рыжей бородою и передергивающимся лицом, напоминавший горбуна. Он имел вид хищника мелкой породы…»
Шарль Демайи - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Мысль критика парила над его ремеслом. бессмертные произведения, самые нежные мелодии человеческой мысли, самые поэтические песни народной души, самые сильные драмы страстей, самые тонкие улыбки ума были его пищей и его счастьем. Мысль его углублялась в Данте, как в поток света, она наслаждалась священными книгами Индии, укреплялась в древних философах, обнимала Гомера и древних богов. Кроме того, мысль Ремонвиля питалась еще и другим насущным хлебом, имела другие занятия и радости столь же благородные и дорогие. Ремонвиль любил искусство. Прекрасное было его религией и совестью. Хорошее полотно, красивый мрамор, красивая линия, весь этот материальный мир, подчиненный воле и гению человека, составляли его величайшее наслаждение. Колорит Рембрандта, солнечное освещение Клода Лорзна, улыбка Монна-Лиза, «Страшный суд» Микель Анджело, Рубенс, Веронез, художники примитивные и декаденты, Мемлинг и Лонги, граверы, начиная Марком Антонием и кончая Гойа, рисунки, эскизы картин, сангины Ватто и синие картоны Прюдона, – вот что составляло его общество, его близких, его очарование. Если его любовь, даже восхищение его относились к настоящим векам, все же его поклонение и обожание всецело принадлежало прошлым. Он постоянно возвращался как бы уносимый потоком стольких прекрасных произведений к бессмертному источнику: греческому искусству. Он преклонялся перед этими мраморами, в которых светилась божественность, перед метопами Парфенона, перед этими лошадьми, всадниками, торсами, полный священного трепета и отчаиваясь подыскать когда-либо слова настолько божественные, чтоб не довольствоваться одними фразами! С какими желаниями, с каким восторгом несся он из своей страны, из своего времени к этой земле Парфенона, к земле Фидия! Его отечество, его алтарь, его грезы, иллюзии, его душа, – все стремилось к ним; называя Грецию, он казалось называл вам свою мать! Он жалел о всем, хвалил все в этой небольшой великой нации, с городами, более населенными статуями чем гражданами, с законами, смягченными Фриной. Что бы ни говорил он об Антонинах, все же ему хотелось, чтобы человечество воротилось ко времени процветания Греции, а не Рима, как к своей истинной зрелости. Аристотель и Платон, по его мнению, сделали достаточно великими психологию и науку. Сократ дал сильный толчок исследованию сродства душ. Геродот и Фукидид сказали последнее слово истории, Эсхил, Софокл и Эврипид – последнее слово человеческих страстей; Аристофан был лучшим выразителем смеха; Афины представляли идеал свободы и греческой цивилизации. И несмотря на все, этот поклонник греческого был католик; но он был католик из ненависти в религии иконоборцев, католик в благодарность за век Льва X; католик из ненависти к северным расам, которых он ненавидел со всем пылом южного племени, из ненависти к Германии, которую он называл Китаем Европы.
– Смотрите, – говорил он, – у них саксонский фарфор, как у китайцев; экзамены, докторские степени, как в Китае; и надворные советники… бранденбургские мандарины!
Экипаж все ехал; лошадь продолжала бежать мелкой рысцой; кучер дремал, шум каскада тихо замирал позади их; коляски как молнии мелькали мимо, унося с собой гул голосов и тени женщин. Ночь была безоблачна, звезды блестели.
– Ну, что же, да, я язычник, – признавался гордо Ремонвиль; и затем полушутливым полусерьезным тоном, тоном умного человека, рассказывающего о чуде, которому он верит, продолжал: – Милый мой, был один ученый, в Мюнхене, то есть немец, который в одной очень ученой брошюре отрицал, что Аполлон – бог солнца… Знаете ли вы, как он умер? От солнечного удара!.. Однако, что же это делает наш кучер?.. Посмотрите пожалуйста, у него вид античного паразита, облокотившегося на триклиниум… Эй! кучер!
XXXII
Интимность, полная интимность воцарилась между обедающими по четвергам; и случилось так, что различие политических верований и литературных мнений, даже диссонанс в характерах настолько же способствовали своим гармоничным противоречием взаимным симпатиям одних к другим, как и сходство вкусов и общность настроения духа. Основой этого общества и его прелестью были откровенность, свобода языка, мысли, совести, дружбы и презрения, при уверенности, что никто не предаст друг друга; редкое удовольствие этого маленького литературного мира состояло в возможности свободно и всецело раскрыть свое сердце и ум, не давая оружия сплетням, нескромности, раздражению и зависти товарищей или же материала в какой-нибудь журнал для заметок биографа! Кроме того, существовала еще сильная связь в этом обществе: взаимность уважения, признание таланта и ума; уважения настолько искреннего, что оно не требовало ни засвидетельствования, ни слов. Эта откровенность, эта взаимная вера друг в друга, придавали отношениям то равенство, до которого никогда не подымятся ничтожные умы и чрезмерное тщеславие. Это уважение делало их, кроме того, снисходительными, благодаря чему они прощали друг другу маленькие неровности в настроении, некоторую шероховатость в манерах, которые принимались ими за оригинальность темпераментов.
После нескольких обедов случалось то, что всегда случается: втерлись некоторые посторонние лица, которые привели в беспорядок скатерть, а вместе с тем разговоры и мысли. Тогда основатели решили покинуть «Красную Мельницу» и начали обедать по очереди, друг у друга. Но Фаржас, имевший столовую, удобную для обедов и болтовни, скоро принял на себя роль амфитриона и возобновил регулярно старые обеды по четвергам, обеды без женщин, непринужденные, на которых снова начались опьяняющие споры и битвы речей по поводу всего, о философской книге, появившейся утром, или исторической диссертации, прочтенной накануне, одним словом, по поводу всех приключений человеческой мысли, всех великих вопросов и сомнений души, всего, к чему стремятся мыслители во время пищеварения. Обеды Фаржаса продолжались таким образом до одного четверга, в который Фаржас предупредил, что следующий четверг обед будет подан в шале, которое он выстроил себе в Нейльи, на землях старинного парка Луи-Филиппа. Обойщик почти кончал и надо отпраздновать новоселье. Фаржас добавил, что этот обед был обязателен, что ничто не избавляло от него, ни наследство, ни свидание, ни первое представление в Bouffes-Parisiens, и что он готовит сюрприз для своих приглашенных.
XXXIII
– Ты знаешь, когда Жерар де-Нерваль повесился… мы ходили смотреть… О! Грязная улица и время!.. Помнишь, Фаржас? Я еще потрогала перекладину… Хорошо, так вот с этого дня… Мне это принесло счастье!.. Ты знаешь, на следующей неделе я встретила венгерского графа… Венгерского графа, что ты скажешь на это, Нинет? Ха, ха!.. и вот счастье не прекращается до сих пор… Вот так история! Пить!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: