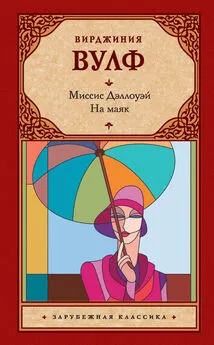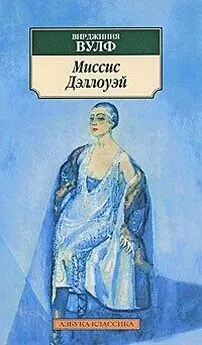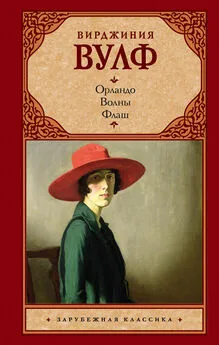Вирджиния Вулф - Миссис Дэллоуэй. На маяк (сборник)
- Название:Миссис Дэллоуэй. На маяк (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент АСТ
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-102090-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вирджиния Вулф - Миссис Дэллоуэй. На маяк (сборник) краткое содержание
Отказавшись от выраженного сюжета и единства времени действия, писатель освободила свою прозу от необходимости следовать четким правилам и дала простор не только поэтической образности своего языка, но и своему необычайно глубокому психологизму.
Миссис Дэллоуэй. На маяк (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Беспредельна милость благих небес! Его пощадили, снизошли к его слабости. Но каково же научное объяснение (ко всему ведь нужен научный подход)? Почему его взгляд все проникает насквозь и прозревает будущее, когда собаки превратятся в людей?
Возможно, тепловая волна воздействует на мозг, восприимчивый благодаря зонам эволюции. Научно говоря, плоть оплывает, отторгается от мира. Тело его истаяло таким образом, что остались одни нервные окончания. Он как туман лежит на скале.
Он откинулся на стульчике, изнуренный и радостный. Он отдыхал и ждал, когда снова сможет вещать, с усилием, с мукой, вещать человечеству. Он лежал высоко-высоко, у мира на спине. Земля дрожала под ним. Красные цветы прорастали у него сквозь мясо; шершавые их листья шелестели над головой; наверху были скалы; они звенели. Это машина гудит на улице, пробормотал он; но там, в вышине, гудок палил по скалам, дробился, снова плотнел, и звуковые удары в стройных столбцах (оказывается, музыка бывает видна – это открытие) взмывали вверх и делались гимном, и гимн свивался с дудочкой подпаска (это старик свистит на свистульке в кабаке, пробормотал он), и когда подпасок стоял на месте, звук шел из дудочки пузырьками, а как только мальчик поднимался чуть-чуть, тонкие нежные стенания растекались над тряско грохочущей улицей. Он исполняет свою элегию прямо на мостовой, думал Септимус. Вот подпасок уходит в нагорные снега, увитый розами – пышными красными розами (как у меня в ванной на стене, вспомнил Септимус). Музыка замерла. Значит, он собрал монеты в шапку и подался в другой кабак.
А сам он был высоко на скале, как тело утонувшего матроса, выброшенное на скалу волнами. Я перегнулся через край лодки, и вот я упал, думал он. Я пошел ко дну, ко дну. Я был мертвым, но вот я ожил, только не трогайте вы меня, молил он (опять он заговорил вслух – ужасно, ужасно!), и, как перед пробуждением птичий гомон и гам улицы дрожат дружно, в лад, и, делаясь громче и громче, катят спящего к берегу жизни, так и его прибивало к берегу жизни, солнце пекло, надсаживался крик, и что-то страшное могло стрястись с минуты на минуту.
Только б открыть глаза; но на них что-то давило; давил страх. Септимус поднатужился; вытянулся; открыл глаза; увидел перед собой Риджентс-Парк. Длинные полотнища света льнули к его ногам. Деревья колыхались, шатались; мы рады, будто говорил мир; мы согласны; мы создаем; создаем красоту, будто говорил мир. И словно для того, чтобы это доказать (научно), куда б ни взглянул Септимус – на дома, ограды, на антилоп, выглядывающих из зоологического сада, – отовсюду навстречу ему вставала красота. Какая радость – видеть бьющийся на ветру листок. В вышине ласточки виляют, ныряют, взмывают, но с неимоверной правильностью, будто качаются на невидимой резинке; а как вверх-вниз носятся мухи; и солнце пятнает то тот листок, то этот, заливая жидким золотом, исключительно от избытка счастья. И такой идет, идет по траве колдовской перезвон (возможно, это часто-часто гудит машина) – и все, как бы ни было просто, как бы ни составлялось из пустяков, но стало отныне истиной. Красота – вот что есть истина. И красота – всюду.
– Уже время, – сказала Реция.
Со слова «время» сошла шелуха; оно излило на него свои блага; и с губ, как стружка с рубанка, сами собой, белые, твердые, нетленные, побежали слова, скорей, скорей занять место в оде Времени – в бессмертной оде Времени. Он пел. Эванс отзывался ему из-за вяза. Мертвые в Фессалии, пел Эванс, средь орхидей. Там они выжидали конца войны. И вот теперь мертвецы, и сам Эванс…
– Бога ради, не подходите! – вскрикнул Септимус. Он не мог смотреть на покойников.
Но раздвинулись ветки. Человек в сером действительно шел прямо на них. Эванс! Но ни грязи, ни ран – он такой же, как был. Я возвещу это всем народам, кричал Септимус, подняв руку (а покойник в сером к нему приближался), подняв руку, как черный колосс, который веками одиноко горевал в пустыне о судьбах людей, зажав в ладонях лицо, все в бороздах скорби, но вот он увидел полосу света над краем пустыни, и она длилась вдали, и свет ударил в колосса (Септимус приподнялся со стула), и в прахе простерлись пред ним легионы, и в лицо безмерного плакальщика тотчас…
– Мне до того плохо, Септимус, – говорила Реция, пытаясь его усадить.
Миллионы стенали; веками скорбели они. Надо повернуться, сказать им, сейчас, сейчас он скажет про эту радость и благодать, про беспримернейшее открытие…
– Время, Септимус, – повторяла Реция. – Сколько сейчас?
Он бормотал, он весь дергался, тот господин, наверное, заметил. Он смотрел прямо на них.
– Сейчас я скажу тебе время, – произнес Септимус очень медленно, очень сонно и загадочно улыбнулся покойнику в сером. И тут пробило четверть – было без четверти двенадцать.
Молодость называется, думал Питер Уолш, проходя. Устроить ужасную сцену (бедная девочка, кажется, сама не своя), и прямо с утра. И с чего бы? – гадал он. Что мог ей сказать этот молодой человек в пальто, чем довел он ее до отчаяния? Что у них, у бедняжек, стряслось? Оба такие потерянные, и в такое дивное утро? Самое забавное, когда возвратишься в Англию после пяти лет отлучки, по крайней мере вначале все видишь будто бы в первый раз; под деревом ссорится парочка; семейные сцены по паркам. Никогда еще не видел он Лондон таким привлекательным – тающие дали; роскошь; зелень; цивилизация – да, после Индии, думал он, ступая по траве.
Эта его восприимчивость, впечатлительность – конечно, сущее бедствие. В его-то возрасте перепады настроения, как у мальчишки какого-нибудь или даже скорей у девчонки; без всяких причин день – прекрасно, день – скверно; он просто счастлив, когда встретит хорошенькую мордашку, и положительно убит при виде страшилища. Конечно, после Индии тут в каждую встречную можно влюбиться. Свежесть какая; и даже самая бедненькая одета лучше, чем пять лет назад; да, на редкость удачная мода; длинные черные плащи; стройность; изящество; и потом – прелестный этот и, кажется, общий обычай краситься. У каждой женщины, даже самой почтенной, цветут на щеках нежные розы; губы как ножом вырезаны; локоны черны, как тушь; во всем расчет, искусство; да, безусловно имеют место какие-то перемены. И чем, интересно, теперь занята молодежь? – спрашивал себя Питер Уолш.
Наверное, именно за эти пять лет – с 1918-го до 1923-го – многое почему-то существенно изменилось. Люди иначе выглядят. Газеты стали другие. Например, кто-то взял и тиснул в солидной газете статью, понимаете ли, о ватерклозетах. Десять лет назад о таком и не помышляли: взять и тиснуть статью о ватерклозетах в солидной газете. А эта манера – вынуть из сумочки помаду и пудру и у всех на глазах наводить красоту? Когда он сюда ехал, на пароходе была бездна юнцов и девчонок – особенно он запомнил таких Бетти и Берти, – они флиртовали в открытую; мамаша сидела, вязала, смотрела и бровью не вела. Девчонка пудрила нос у всех на виду. И ведь они не то что жених и невеста; ничуть; просто шалят; и никаких тебе оскорбленных чувств; да, надо сказать, штучка с перцем, эта Бетти – и притом вполне, в общем, ничего. Годам к тридцати будет прекрасной женой – выйдет замуж, когда приспеет пора; выйдет за богача и станет с ним жить-поживать в роскошном доме под Манчестером.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: