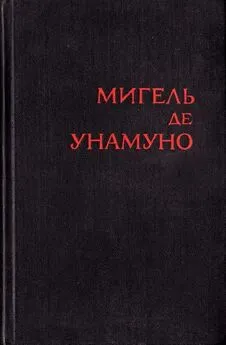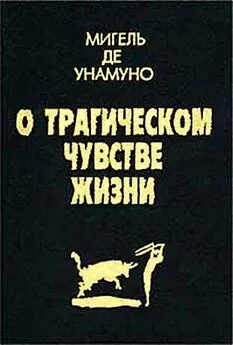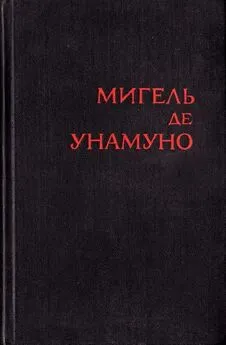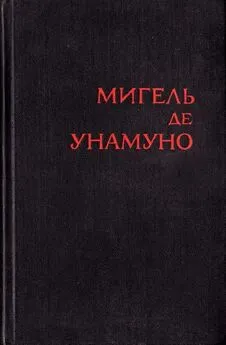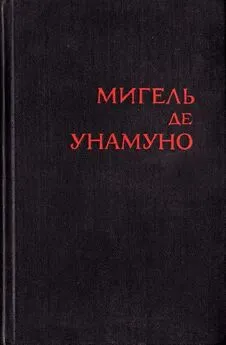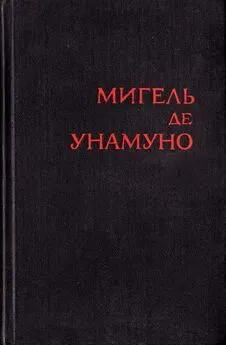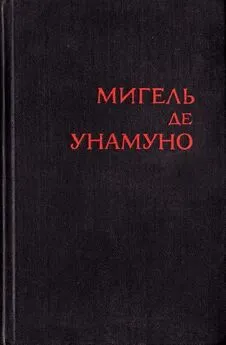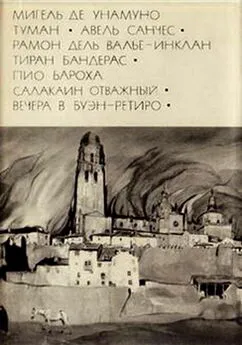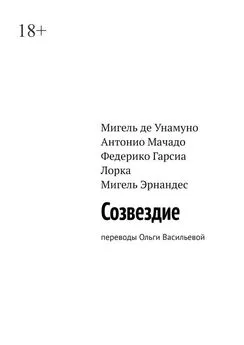Мигель де Унамуно - Любовь и педагогика
- Название:Любовь и педагогика
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература. Ленинградское отделение
- Год:1981
- Город:Ленинград
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мигель де Унамуно - Любовь и педагогика краткое содержание
Замысел романа «Любовь и педагогика» сложился к 1900 году, о чем свидетельствует письмо Унамуно к другу юности Хименесу Илундайну: «У меня пять детей, и я жду шестого. Им я обязан, кроме многого другого, еще и тем, что они заставляют меня отложить заботы трансцендентного порядка ради жизненной прозы. Необходимость окунуться в эту прозу навела на мысль перевести трансцендентные проблемы в гротеск, спустив их в повседневную жизнь… Хочу попробовать юмористический жанр. Это будет роман между трагическим и гротескным, все персонажи будут карикатурными».
Авито Карраскаль помешан на всемогуществе естественных и социальных наук. Еще будучи холостяком, он собирается «по науке» выбрать себе жену, затем «научно» воспитать ребенка – и ребенок неминуемо станет гением…
Любовь и педагогика - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
– А если этот момент наступит раньше?
– Нет, я прекрасно знаю, в каком возрасте он наступает.
Еще некоторое время они уделяют составлению плана воспитания мальчика; главный принцип сводится к тому, что ребенок должен все увидеть; все попробовать, всем насытиться и побывать в любой обстановке. «Пусть он включается, пусть включается в поиск своей отсебятины», – твердит философ. Но все должно быть научно обосновано, истолковано и прокомментировано. Природа – природа с большой буквы, разумеется, – огромная открытая книга, на полях которой человек должен делать замечания и разъяснения, отчеркивая красным карандашом наиболее примечательные места. «Больше красного карандаша, не жалейте красного карандаша, а поскольку в действительности примечать надо все, то самое разумное – отчеркнуть красным карандашом всю книгу», – говорит дон Фульхенсио, ведь он свои произведения целиком печатает курсивом.
Сходятся на том, что дон Авито будет записывать все достойное упоминания из поступков и речей будущего гения, чтобы затем обсудить этот материал вместе с философом, сделать выводы и действовать дальше, сообразуясь с ними.
Карраокаль отправляется восвояси и в коридоре встречает доныо Эдельмиру. Это высокая женщина, неторопливая, монументальная, уже немолодая, с мягкими чертами лица и румянцем на щеках; носит парик. Они церемонно раскланиваются, и Карраскаль уходит.
– Фульхенсио, это был дон Авито Карраскаль?
– Да, а что?
– Нет, ничего; он, кажется, славный человек.
Философ берет свою дородную половину за подбородок и говорит:
– Послушай, Мира, не будь злюкой.
– Это ты злюка, Фульхенсио.
– Мы оба злюки, Мира.
– Ну, ты как хочешь, а я так думаю, что мы очень даже хорошие…
– Может, ты и права, – задумчиво соглашается философ и добавляет: – Черт побери, а ты у меня все еще лакомый кусочек, несмотря на твои…
– Тс-с-с, Фульхенсио, у стен бывают уши… и глаза…
«Ты пал, пал и падешь сто раз, – говорит внутренний голос Карраскалю на обратном пути, – этот человек, Авито, этот человек… этот человек…» Но, войдя в дом и увидев знакомое колесо на кирпиче, посвященном науке, Карраскаль успокаивается.
V
Как всякое начало предполагает конец, так и конца не бывает без начала, на каковом этапе все еще и пребывает Аполодоро. Понемногу отвыкает от груди – к печали и одновременно к радости Марины. Отец велит кормить сына в такой-то час столько-то минут, взвешивает еду, а затем и самого ребенка, и так три раза в день. Прежде всего гигиена и физическое воспитание; сейчас задача – сделать из него здоровую особь, надо набить его бобами: фосфор, побольше фосфора.
Мальчик пробует ходить. Для ускорения дела отец тренирует его в большой комнате, устланной мягким ковром, где в распоряжение ребенка предоставляются стулья и другие предметы, за которые можно держаться одной рукой, а в другую дается палка, чтобы он использовал ее как трость. Если Марина порывается бежать на помощь малышу, видя, как тот закачался и вытянул вперед ручки, она слышит.
– Стой, не надо, пусть падает, ниже пола не полетит.
– Ну, что это за мир, пресвятая дева! – восклицает мать и возвращается в свой сон.
Когда поблизости никого нет, Марина берет ребенка па руки и учит: «Скажи «мама», сынок, скажи "мама"». – Недаурикулярные массажи сделали свое дело: Аполодоро начал говорить, и отец регистрирует его первое слово, первое самовыражение личности. Это слово – «гого», Гого! В нем высокая тайна! Быть может, оно кабалистическая формула, в которой закодирована индивидуальность нового гения… Ибо, если графология и другие науки, изучающие загадочные психофизиологические соотношения, имеют под собой реальную почву, что вполне допустимо, то почему бы не выявить связь между первым словом, произнесенным человеком, и его личностью? Гого! Авито немедленно отправляется к дону Фульхенсио. Звонкий гутуральный согласный в сочетании с гласным, занимающим среднее положение в ряду фонем (а – о – у), причем сочетание повторяется… Го-го, го-го, го-го! Интересно, какая связь между этим таинственным го-го и будущим метадраматическим моментом?
Дон Фульхенсио вспоминает об опыте, который проделал, по свидетельству Геродота, египетский фараон Псаметих с целью установить, какой из языков самый древний. Он отдал двух новорожденных пастуху, чтобы тот воспитал их в уединении, так что они не слышали бы человеческой речи, и вот через два года пастух обратил внимание, что дети повторяют слово becos, a это по-фригийски «хлеб», – стало быть, самым древним языком оказался фригийский, а не египетский. Исследование, проведенное доном Фульхенсио, позволило выяснить, что слово «гого» принадлежит баскскому языку, где оно имеет значение «желание, хотение, настроение, намерение», в переносном смысле, возможно, и «воля».
– Ребенок чего-то хочет, но свое желание выражает по-баскски…
Затем Аполодоро начинает выговаривать: «папа», «мама», «па», «аба», «тити», «чича», а в один прекрасный день огорошивает отца загадочными словами, которые произносит, ни к кому не обращаясь, как бы разговаривая сам с собой: «пучучули», «пачучила», «титамими», «татапупа», «пачучили».
«Я его не понимаю, никак не могу понять, – говорит себе Авито на пути к дому философа, – А вдруг это кабалистические символы! Я ведь пал… пал. В нем материнская кровь… И этот человек… – Но тут Авито спохватывается и сквозь зубы произносит: – Замолчи! Замолчи!»
Ребенок меж тем забавляется словотворчеством, лепит слова из чего попало, выдумывает и тем утверждает свою изначальную самобытность, от которой впоследствии придется отказаться во имя общения с другими людьми; а пока что он дает волю чудесной творческой силе, которой наделены дети, играет миром, как заправский поэт, создавая бессмысленные слова: «пучучули», «пачучила», «титамими»… Бессмысленные? А не так ли зарождается язык? Ведь сначала было слово, а смысл пришел потом.
Дон Авито внимательно наблюдает за одинокими играми маленького гения, этими первыми попытками что-то сделать, этой пробой душевных сил, этим рысканьем в дремучем лесу в поисках своего пути. Авито замечает, какой получается дидактический эффект, когда оп показывает сыну блоху сначала для осмотра невооруженным глазом, а потом – под микроскопом. Стол покрыт клеенкой, на которой изображены основные открытия и портреты изобретателей. Монгольфье ребенок называет папой – видимо, находит в нем сходство с отцом.
Пока отец уединяется с философом, мать уединяется с сыном и тискает в объятиях грезу своих снов, осыпает поцелуями.
– Мама, скажи «милый».
– Милый! Милый ты мой! Дорогой мой! Принц наследный! Солнца мое! Милый! Милый! Луис, Луисито, Луи сито, мой Луис!..
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: