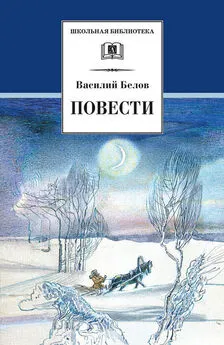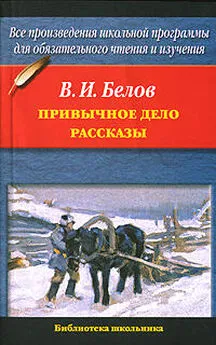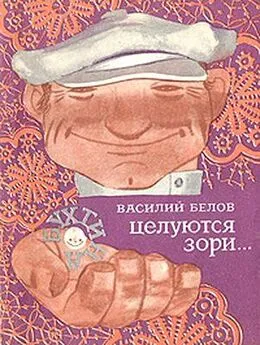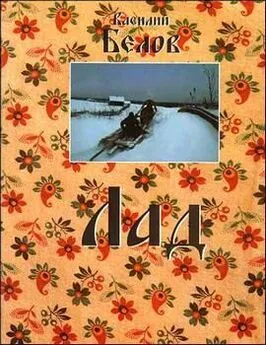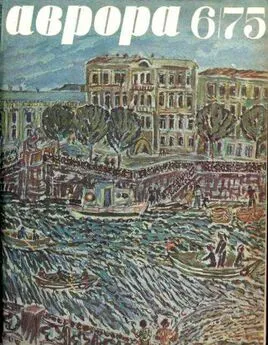Василий Белов - Повести
- Название:Повести
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Детская литература
- Год:2005
- Город:М.
- ISBN:5-08-004188-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Василий Белов - Повести краткое содержание
Повести - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Справедливость утверждения, что «уходящее сословие» на грани своего исторического «ухода» с наибольшей остротой выявляет свою собственную природу и сущность целого народа, подкрепляется убедительными доказательствами. Вопреки теории о главенстве в советском обществе рабочего класса, в русской литературе советского периода не было ярких произведений из жизни рабочих. Зато как значительна крестьянская тема! Это и творчество Сергея Есенина, и «Тихий Дон», «Поднятая целина» Шолохова, и Твардовский, которым восхищался в эмиграции Бунин, и «деревенская проза», и явившийся тогда же, в 60-х, Николай Рубцов… Само время выдвинуло перед литературой задачу сохранить, как в самом надежном хранилище, все те культурные и нравственные ценности, которые были созданы русским крестьянством на протяжении его многовековой истории . Сохранить крестьянскую философию, сохранить крестьянскую речь, запечатлеть человеческие типы…
Открываешь первую страницу повести «Привычное дело» и слышишь чей-то голос: «Парме-ен? Это где у меня Парменко-то? А вот он, Парменко. Замерз? Замерз, парень, замерз…» Мало-помалу голос обретает свою интонацию, свой характер. Какой-то Иван Африканович развязывает замерзшие вожжи, и становится ясно, что Пармен, Пармеша, может в ответ только встряхивать головой.
Не в лучшем виде предстает перед читателем при первом знакомстве Иван Африканович Дрынов. Ведь о чем он беседует с мерином, запряженным в дровни? О том, что выпил крепко с приятелем своим Мишкой. А начнет вспоминать, сколько у него детей, так всех перепутает. Зато помнит Пармена маленьким жеребенком и помнит его матку Пуговку. Она-то послушна была в оглоблях, а вот Парменка, когда семенной горох возили, угодил в канаву. И нынче не домой доставил Ивана Африкановича, а завез в соседнюю деревню.
Смешной в общем-то мужик. Комический персонаж. Вез в дровнях товар для магазина и поуродовал самовары. Взялся сватать Мишку к Нюшке из соседней деревни, так она их обоих выгнала… Это лишь после читатель увидит, что один из малолетних сыновей Ивана Африкановича нацепил на рубашонку боевой орден Славы. А затем и Иван Африканович к случаю вспомнит войну: как ходил в разведку и приволокли тогда разведчики пленного немца. Оказывается, у него есть и орден Красной Звезды, а именно эти ордена – Славы и Красной Звезды – считались самыми солдатскими и доставались действительно за доблесть и отвагу. Так что Иван Африканович по ходу повести вроде бы и повыше становится, и пошире в плечах. Герой войны, самой страшной за всю историю России, да и за всю человеческую историю. А наша армия и в эту войну – как и в первую германскую – была в основном крестьянской. Война тоже крестьянская тема. На родине Белова в Тимонихе установлен железный лист с именами тех, кто не вернулся с войны. Не вернулся и отец Белова. А Иван Африканович… «Пришел с войны – живого места нет, нога хромала, так и плясал с хромой ногой. Научился. Может, из-за этого и нога на поправку пошла, что плясал, давал ей развитие». Кстати, тогда же Иван Африканович и Библию, доставшуюся ему по наследству, наверное, старинную, променял на гармонь, чтобы играть для своей Катерины, но не успел даже на басах научиться трынкать – описали за недоимки и продали, а Библия у соседа не заинтересовала тех, кто собирал с деревни недоимки.
Как-то само собой сливаются воедино смешное и трагическое, лирика и эпос, малое и большое. И все это – в одном человеке, в одном характере. Не плоское изображение на листе, не одностороннее, а объемное, живое, меняющееся, поворачивающееся и так и сяк. Конечно, не образец для подражания. Критика 60-х годов судила об Иване Африкановиче, исходя из привычных тогда представлений о положительном герое современности.
В наше время, когда деревня вновь разорена и брошена на произвол судьбы, Иван Африканович может показаться более современным персонажем, чем тридцать лет назад. С коровой-кормилицей, потеря которой значила полный крах домашней экономики. С вечной заботой о том, как накосить корове сена на всю зиму. С вечным непониманием, чего же нужно от крестьянина властям: Москва по радио (а теперь и по телевидению) вторгается в каждую избу, а как докричаться из деревни до Москвы? И наконец, в России пьянство всегда было знаком самых плохих времен. Однако какими все-таки словами, с помощью каких привычных нам понятий можно определить характер Ивана Африкановича Дрынова? Что он за человек?
Вопрос этот обращен в повести «Привычное дело» в бо́льшей степени к возможностям сердца читателя, чем к возможностям рационалистического ума, – в том значении, которое вкладывал в эту антитезу другой герой Белова, ученый Медведев из романа «Все впереди».
Как-то не сразу приходит понимание, что «Привычное дело» – повесть о любви, которую пронесли через всю жизнь Иван Африканович и его Катерина. По убеждению Ивана Африкановича, самое главное в жизни – любовь, семья, дети. Увезли Катерину в больницу, и он себе места не находит, ссутулился, глубже стала тройная морщина на лбу. И сон приснился, будто сидят они вдвоем у любимого родничка, а он еще военной фуражкой поит Катерину серебряной водой: «Она что-то говорила ему, что-то спрашивала, но Иван Африканович не смог запомнить, что говорила, он помнил только ясное, острое ощущение близости Катерины, ощущение ее и его жалости и любви друг к другу…»
А какое глубокое потрясение испытывает Иван Африканович, похоронив Катерину. И когда он спустя дни находит в лесу висящий на ветке женский платок. Запах Катерининых волос не могли выдуть лесные ветры. Не этой ли находкой можно объяснить, почему он, всегда ходивший по лесу уверенно, как по деревенской улице, заблудился и чуть не погиб? И кончается повесть осенним днем, когда Иван Африканович срывает в огороде несколько гроздьев красной рябины и несет Катерине на кладбище: «Худо мне без тебя, вздоху нет, Катя. Уж так худо, думал, за тобой следом. А вот оклемался… А твой голос помню. И всю тебя, Катерина, так помню, что… Да. Ты, значит, за робят не думай ничего. Поднимутся. Вон уж самый младший, Ванюшка-то, слова говорит… такой парень толковый и глазами весь в тебя. Я уж… да. Это, буду к тебе ходить-то, а ты меня и жди иногда… Катя… Ты, Катя, где есть-то? Милая, светлая моя, мне-то… Мне-то чего… Ну… что теперече… вон рябины тебе принес… Катя, голубушка…»
Иван Африканович весь задрожал. И никто не видел, как горе пластало его на похолодевшей, не обросшей травой земле, – никто этого не видел».
Две особенности сочетаются в писателе, знаменующем собой эпоху в жизни национальной литературы: сильно выраженный местный колорит и неосознанный всеобщий смысл произведения. Эта мысль принадлежит Томасу Стирнсу Элиоту, американскому писателю, Нобелевскому лауреату (1888–1965). Поясняя ее, Элиот писал: «Всеобщность никогда не появится в произведении, если писатель пишет не о том, что знает вдоль и поперек». Писателем местного колорита был Марк Твен, но для его читателей во всем мире Миссисипи – не только американская река с живущими на ее берегах американцами, это «река в ее высшем значении ». Из русской литературы Элиот приводил в пример Достоевского и Чехова. Читая их, «мы оказываемся, по моим наблюдениям, заинтересованными прежде всего причудливым складом души русских людей; но потом мы начинаем понимать, что перед нами всего лишь необычный способ выражения тех мыслей и чувств, которые мы все испытываем и знаем».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: