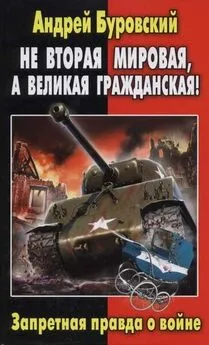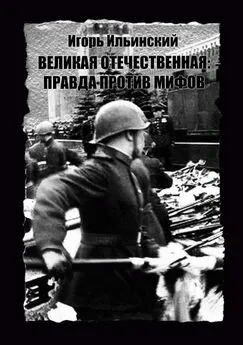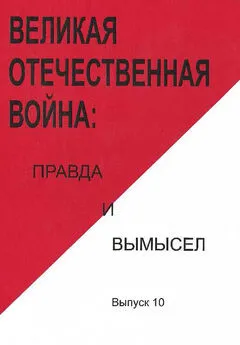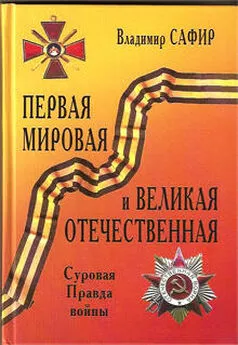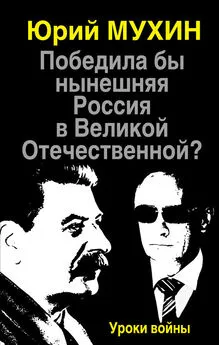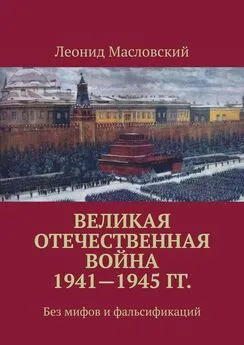Леонид Леонов - Живая память. Великая Отечественная: правда о войне. В 3-х томах. Том 3. [1944-1945]
- Название:Живая память. Великая Отечественная: правда о войне. В 3-х томах. Том 3. [1944-1945]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Совет ветеранов журналистики России. Союз журналистов РФ
- Год:1995
- Город:Москва
- ISBN:5-7164-0006-Х
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Леонид Леонов - Живая память. Великая Отечественная: правда о войне. В 3-х томах. Том 3. [1944-1945] краткое содержание
В руках у Вас книга, которую нельзя отложить, не прочитав ее. Это — не роман и не повесть, это страстный порыв рассказать о событиях, которые всегда будут в памяти народа. Каждое слово ее проникнуто правдой, одухотворено поиском истины.
Трехтомник «Живая память» — уникальная летопись героизма защитников Отечества в битве с фашизмом, сурового пути к великой Победе. В народе говорят: «Чтобы оценить Сегодня, увидеть Завтра, надо обязательно оглянуться в Прошлое». В этом помогут три тома, созданные большим отрядом ветеранов Отечественной войны — от солдат до маршалов, партизанами, тружениками тыла, писателями, учеными, журналистами. Материалы книги — это свидетельства очевидцев, они объективно и правдиво раскрывают грандиозный подвиг нашего народа, несут большой патриотический заряд.
Особенность книги — разнообразие жанров. Здесь воспоминания, очерки, фронтовые дневники, статьи, документы, письма, стихи, фотографии, репродукции картин. Издается трехтомник Объединением ветеранов журналистики России при Союзе журналистов Российской Федерации. Убеждены, что красочный трехтомник «Живая память» будет достойным подарком ветеранам войны и труда к 50-летию Победы, привлечет внимание нашего юношества, широких читательских кругов.
Живая память. Великая Отечественная: правда о войне. В 3-х томах. Том 3. [1944-1945] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Дом, где они жили, разбомбили. Все сгорело. Отец где-то на фронте, вчера вечером мать померла. Остался Петюша круглым сиротой. Взяла бы мальчика, но не сегодня, так завтра сама богу душу отдам…
Я подошел к койке:
— Как тебя зовут?
— Петр Владимирович Данилов, — тихо, с достоинством ответил мальчик.
— Значит, мы с тобою тезки. Меня зовут Петр Дмитриевич. Поехали с нами на Большую землю…
Мальчик ухватился за мать и так заплакал, что и мы, видавшие виды, стали отворачиваться друг от друга. Когда он немного затих, я сказал:
— Петя, ты уже большой. Маму не вернешь, а поедешь с нами в армию, может быть, твоего отца найдем. Знаешь, как он обрадуется…
Слова подействовали. Мальчик встрепенулся, посмотрел на меня:
— Вы — на фронт?
— На фронт, конечно. Мы — танкисты.
Мальчик рванулся к матери, поцеловал ее, подошел к бабушке, прижался к ней…
— Поезжай, сынок… — Старушка перекрестила его и, легонько взяв за плечи, повернула лицом ко мне.
— Спасибо вам, сынки. Доброе дело сделаете, может, и сами живы останетесь.
В машине мы Петю накормили, и он уснул крепким сном. Мы заволновались — дышит ли он?
Доехали благополучно и определили Петю в тот же медсанбат, где находилась Нина. Она уже окрепла. Мальчик же был крайне истощен. Несоразмерно большими и не по-детски грустными казались голубые глаза на маленьком заострившемся личике.
С этого дня я стал все чаще приезжать в медсанбат. Дети с радостью встречали своего «дядю Петю». А «дяде Пете» тогда шел двадцать второй год. Жили они в одной палате. Петя быстро поправлялся, интересовался танками, просил ему привезти автомат. Сколько было радости, когда я привез немецкий трофейный, научил им пользоваться.
— Жаль, маловат я, — сказал Петя с грустью, возвращая мне автомат. — С ним, когда подрасту, пошел бы в разведчики.
Батальонные умельцы сшили для мальчика военное обмундирование, в петлицах — эмблемы танковых войск. Ему было девять лет, он гордился своей формой, но сетовал:
— Какой же я, дядя Петя, танкист. Боевые машины только издали вижу…
Три месяца прожили у нас Нина и Петя. Девочка постоянно опекала мальчишку. Но пришло время разлуки. Разыскали мы отца Пети, батальонного комиссара Владимира Николаевича Данилова. Он приехал и увез сына в Москву.
Прощание было трудным. Петя отвык от отца, воспринимал его как чужого, не хотел расставаться с «дядей Петей» и «сестренкой Ниной».
— Все равно убегу! — кричал Петя до тех пор, пока зеленый «газик» не скрылся за поворотом. Его крик разрывал душу.
А через пару недель и Нину отправили в интернат города Новосибирска. Документов у нее, конечно, никаких не было. Они остались на дне Ладожского озера. Пришлось выдать справку за моей подписью и штампом полевой почты 122-й танковой бригады. Нина попросила написать в справке мою фамилию и отчество: «Хорошилова Нина Петровна». Я не знаю, как эта справка выглядела с юридической точки зрения, но другого мы не могли ни сделать, ни придумать.
Нине, как и Пете, сшили шинель с танковыми эмблемами в петлицах, выдали кирзовые сапоги, подобрали шапку-ушанку со звездочкой. Дали ей на дорогу денег, сухой паек. Живое участие в судьбе Нины приняли танкисты нашей бригады и врачи А. В. Куранов, Я. А. Гернштейн, Д. М. Сафонов и другие.
Радостью и печалью отозвались в сердце эти проводы. Каждый на прощанье говорил девочке ободряющие слова: будем тебе писать, обязательно встретимся после войны. Но мы сознавали, что не всем удастся узнать о дальнейшей судьбе Нины. Многие из моих товарищей пали на полях сражений, а мне посчастливилось остаться в живых. Помню последние слова Нины, помню все оттенки детского голоса, срывающегося на крик: «Вы — мой второй отец, никогда вас не забуду!»
Мне известно, что отец девочки погиб в боях за Родину. По некоторым данным, Нина после войны возвратилась в Ленинград. Пытался ее разыскать, но безуспешно, однако надежды не теряю.
Зато я с радостью узнал, что Петя закончил Академию бронетанковых войск. Теперь он генерал-лейтенант Петр Владимирович Данилов. Его мечта сбылась.
Иван Чинарьян. Одиннадцать нашивок
У Владимира Наумовича редкая украинская фамилия — Коцюруба. Сам он — коренастый, плотный, заметный человек, а уж про его судьбу, особенно военную, можно просто сказать — необыкновенная. Когда ему было 15 лет, он жил трудно, пас скотину — пережил и голод, и холод. Потом была биржа труда. Поехал в Забайкалье, в Читу, прошел всю строительную выучку — каменные, кирпичные, печные, бетонные, арматурные, малярные, столярные, плотничьи дела знал и умел творить. 5 марта 1942 года, уже вполне взрослым и самостоятельным, но, правда, без среднего образования, пошел Владимир Коцюруба на защиту Родины своей. Три года и два месяца он провоевал так, как могла бы, скажу без преувеличения, воевать целая рота. А званием вышел самым малым в пехоте — ефрейтором.
Мне посчастливилось познакомиться с этим удивительным человеком в сентябре 1945 года в Чите, куда судьба военного корреспондента в одночасье забросила меня с далекого запада, из 2-го Белорусского на восток — на Забайкальский фронт.
Познакомился я тогда с Владимиром Коцюрубой и в присутствии его супруги Анны Семеновны попросил изложить на бумаге все, что с ним было на войне. И он честно выполнил мою просьбу — написал, как он прожил эти три года и два месяца. Да еще отдал мне подлинные документы из своей воинской части 21498.
…Прошло полвека. С трепетом, с труднообъяснимым чувством я держу восемь листочков биографии. Пожелтелые странички, написанные чернилами, потерявшими свой былой цвет: передо мной «Моя автобиография». И я вижу его, представляю Владимира Коцюрубу живым, веселым, очень скромно живущим в простеньком деревянном домике под номером 103 на улице Чкалова.
Помнится, пришлось не раз ходить в военкомат, еще куда-то, чтобы подбросили Володе и Анне дровишек и еще кое-что для житья-бытья.
В ноябре 1945 года я опубликовал во фронтовой газете «На боевом посту» очерк «История десятой нашивки». А мой фронтовой товарищ Петр Ашуев сделал фотоснимок, запечатлевший счастливую чету — Владимира Наумовича и Анну Семеновну.
Из автобиографии Владимира Коцюрубы
Родился 1 августа 1909 года в рабочей семье. Отец помер в 1924-м, а мать в 1933-м. Приходилось пробовать, какой лучше хлеб. Жизнь моя проходила неплохо, но и не хорошо, был все же в достатках. В марте 1942 года ушел на защиту своей земли, чтобы заменить трех погибших братьев. Решил: сколько буду жить, столько и буду бороться за нее до самой смерти. С первых дней военная служба показалась очень трудной, но усвоил все, что надо было в бою для меня. Четыре месяца ученья прошли, и мы поехали на запад, на фронт. До Сталинграда было 140 километров. Я впервой здесь понюхал, что такое война. На нас напал с неба немец и давай бомбить. Выгрузились из эшелона, маршем ушли на Ростов. Продуктов не было, кто что имел, то и ел. Но шли мы не робея, каждый забайкалец и сибиряк, хоть и был голодный, но бодрый и гордый солдат. Друг друга веселили. Так дошли до Дона-реки, сделали привальчик. Потом нас отсюда направили на передовую. Тут мы увидели в воздухе ракеты немецкие, трассирующие пули… Окопались, пристрелялись. Пришла команда, и ночью направили нас в другое место, потом в третье. А вот здесь-то шел большой бой. И артиллерия била, и с воздуха палили — вокруг дым, рвались снаряды, жужжали пули, гудели самолеты, стонали раненые. Такие страшные пять дней на Котельническом направлении в 488-м стрелковом полку, где я воевал с винтовкой, мне не забыть никогда. В этом бою меня сшибла немецкая мина, ранило в правую ногу. Попал первый раз в госпиталь, потом в команду выздоравливающих — и я в боевом строю уже в другой гвардейской дивизии. 25 ноября в бою за железную дорогу утром меня ранило в лоб. Снова госпиталь, но не надолго — на два месяца, и опять в боевые порядки, теперь уже в другую гвардейскую.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Леонид Леонов - Живая память. Великая Отечественная: правда о войне. В 3-х томах. Том 3. [1944-1945]](/books/589720/leonid-leonov-zhivaya-pamyat-velikaya-otechestvennaya-pravda-o-voyne-v-3-h-tomah-tom-3-1944-1945.webp)