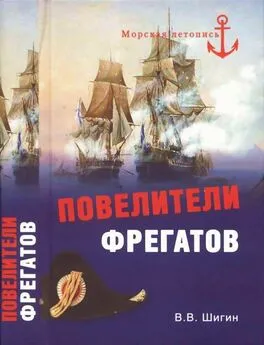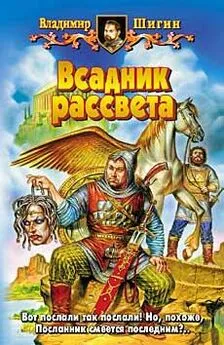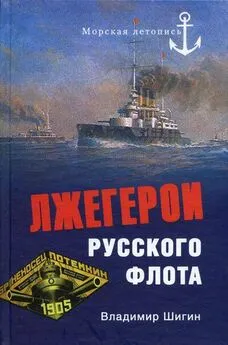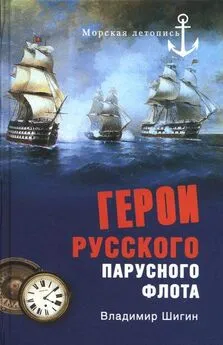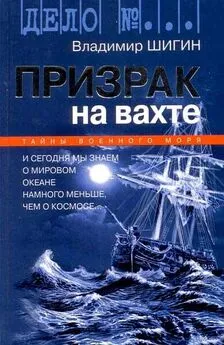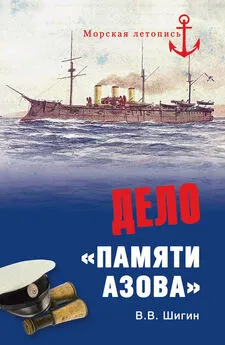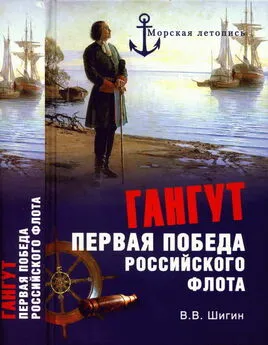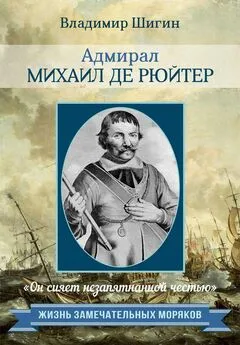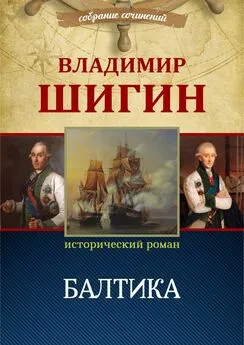Владимир Шигин - Повелители фрегатов
- Название:Повелители фрегатов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Вече
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9533-6201-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Шигин - Повелители фрегатов краткое содержание
Эпоха парусного флота в России началась с указа Боярской думы о создании регулярного флота в 1696 году и завершилась вскоре после окончания Крымской войны в 60-х годах XIX века. Это время обычно связывают с романтикой и невероятными приключениями, открытиями новых земель и отчаянными абордажами. Однако за внешней привлекательной стороной скрывается жестокая реальность. Ежечасно отважных мореплавателей подстерегали бури и рифы, смертельные болезни и беспощадные враги. Их называли безумцами, но они упрямо направляли форштевни своих кораблей к заветной пели!
Чем же примечательным отличалась жизнь русских моряков? Это и учеба, несение береговой службы, практические и дальние плавания, «штормовки» в морях и океанах, участие в морских сражениях, порой непростая личная жизнь, отдых и досуг. Об этом и многом другом рассказывает очередная книга известного писателя и историка Российского Военно-морского флота Владимира Шигина.
Повелители фрегатов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
С момента выхода судна на рейд командиру запрещалось его покидать (особенно на ночное время!) только с разрешения высших начальников. Командир нес личную ответственность за сохранность своего судна. Никто на судне не имел права изменять курс без личного приказа капитана! Помимо этого командир лично отвечал за охрану крюйт-камеры, за количество припасов на борту, своевременность подачи сигналов, за подготовку своих подчиненных и обязан был заботиться о них, отличать лучших и наказывать нерадивых, судить бунтовщиков, отчитываться за потраченные деньги и т.д.
Особая ответственность возлагалась на командира во время войны. Согласно Морскому уставу 1721 года ему вменялось в обязанности следующее: «В случае боя должен капитан… не токмо сам мужественно против неприятеля биться, но и людей к тому словами, и… образ собою побуждать, дабы мужественно бились до последней возможности».
Командир лично отвечал за то, чтобы встречные суда первыми салютовали российскому флагу, и не допускать посрамления чести своего Отечества. Любопытно, что помимо всего командир российского военного судна, оказавшись в чужом порту, был обязан защищать оказавшихся там наших торговых моряков, если они того попросят. При этом делать сие капитан должен был исключительно бескорыстно, ибо за принятую взятку от купцов его навечно лишали чина и отдавали в матросы. Кроме этого командирам военного флота строжайше запрещалось заниматься какой бы то ни было торговлей и провозить на своем судне купеческие товары.
Разумеется, капитаны получали значительно большие деньги, чем младшие офицеры, однако следует понимать, что и расходы у них были тоже куда более значительные. Дело в том, что в море командиры кораблей питались не в кают-компании, а отдельно в своей каюте (такова была традиция). Именно поэтому флотские острословы именовали капитанскую каюту не иначе как «ящик отшельника».
Лишь иногда капитан приглашался офицерами в кают-компанию, но зато время от времени он должен был приглашать к себе на обед и часть офицеров. Поэтому, если перед выходом в море офицеры скидывались на улучшение своего стола все вместе, что получалось не слишком затратно, то капитану все приходилось для себя закупать самому. Помимо всего прочего, каждый капитан должен был иметь запас продуктов и выпивки на представительские нужды и для приема начальства. Вот типовой перечень вещей, покупаемых командиром небольшого судна конца XVIII века, перед выходом в длительное морское плавание: пять поросят, пара дюжин кур, пять-шесть дюжин недорогого вина (портвейн, херес, мадера), табак, сигары, яблоки, ящичек чая, перец, корица, гвоздика, чернослив, сахар и варенье. Помимо продуктов капитану необходимо было приобрести определенное количество восковых свечей, хорошие гусиные перья, бумагу и чернила. Помимо этого — новый мундир, пару новых башмаков, дюжину рубах, три-четыре пары шелковых чулок — для визитов к адмиралу и других официозов. В итоге все обходилось в копеечку. Но иного выхода просто не было, так как положение обязывало!
Известная поэтесса середины XIX века графиня Ростопчина после посещения одного из кораблей Балтийского флота написала весьма романтическое стихотворение «Бал на корабле», в котором, однако, подметила особенности обособленной жизни командира:
…Вот темных келий вкруг офицерской залы,
Где много жизни лет у каждого пропало,
Где в вечных странствиях далекий свет забыт,
Где в общей тишине лишь волн прибой шумит.
Вот в дальней комнате две пушки и меж ними
Диван, часы и стол — здесь капитан живет,
Один… с заботами и думами своими,
За благо общее ответственность несет.
Здесь суд, закон и власть; здесь участь подчиненных,
Их жизнь, их смерть, их честь в руках отягощенных
Владыка на море, он держит и хранит,
И с ним беседуя, волна под ним шумит.
О! Кто из нас, танцующих беспечно,
Постигнет подвиги и долю моряка?
Как в одиночестве, без радости сердечной,
Томит его по родине тоска! Как пусты дни его.
Как однозвучны годы!
Как он всегда лишен простора и свободы!
Как вечно гибельно в глаза ему грозит
То море синее, что плещет и шумит!
А вот как происходило назначение командиром пусть даже самого малого судна, и какими коллизиями такие назначения сопровождались. Из воспоминаний адмирала И.И. фон Шанца: «С наступившею весною 1822 года, в конце апреля, как это обыкновенно водилось, между офицерами ходили слухи и догадки, кто, куда назначен в поход и кому какие будут доверены суда. В то время не существовало постоянных командиров, а по окончании кампании, суда сдавались к порту до следующей весны, когда же приспевало время их вооружения, то они поручались прежнему или новому командиру, что по большой части зависело от распоряжения главных командиров. Часто эти распоряжения разрушали многие честолюбивые надежды, еще чаще сбивали спесь со старых, но, по мнению высшего начальства, неспособных офицеров, воображавших, что 10-15 лет службы, большею частью бесполезной, были достаточным обеспечением в достижении почетного звания командира. Как часто, при чтении приказов, объявлявших в то время о назначении командиров из числа более сведущих, но молодых офицеров, зависть возбуждалась в тех, которые, по списку старшинства, стояли гораздо выше призванных к командованию.
Но можно было быть уверенным, что редко бывал такой ропот, как в апреле 1822 г., когда в Свеаборге вышел приказ, в котором между прочими назначениями можно было прочесть: «Мичман ф.-Ш… назначается командиром 8-пушечного тендера «Атис». Основываясь на вообще принятом тогда правиле: мичману не доверять не только военное судно, но даже не вооруженную артиллериею гребную канонерскую лодку, многие утверждали, что адмирал, поручив мне единственный тендер в Свеаборге, сделал непростительный промах. Предшественником моим в командовании «Атисом» был некий г. В…ский, старый лейтенант того же экипажа, в котором служил я. Лишившись командования тендером, он получил, взамен его, на предстоящую кампанию, неуклюжий, одномачтовый, транспортный бот, не носивший даже названия, а только числившийся под № 6 и назначенный сопровождать эскадру с грузом провизии и шкиперских материалов. Надобно также заметить, что и в лице своего ротного командира, г. В…за старого лейтенанта, я нашел весьма придирчивого, докучливого соперника. Этот офицер, человек с состоянием, считавшийся первым щеголем в Свеаборге, не только изо всех сил давно уже добивался получить «Атио, но, как слухи носились, в тайне мечтал даже, и, к несчастию, совершенно бесполезно, о руке старшей дочери адмирала. Убедившись, наконец, в тщете своих мечтаний, он преисполнился такого гнева, что я положительно не имел от него покоя до той поры, пока «Атио не вытянулся на рейд. Как мой ротный командир, он имел возможность теснить меня разными дрязгами и мелочными хлопотами, так что день, в который мне удалось от него вырваться, я считал, одним из счастливейших.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: