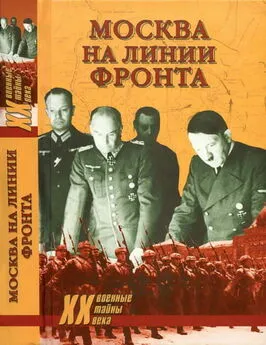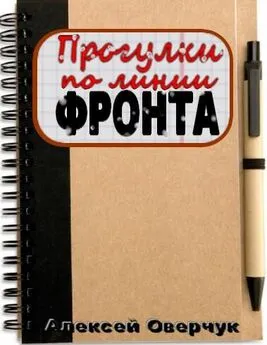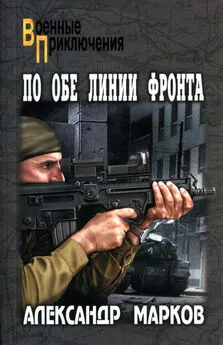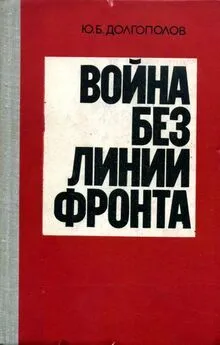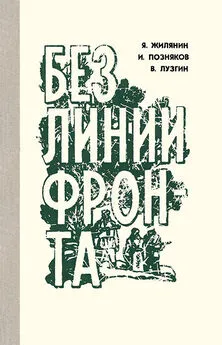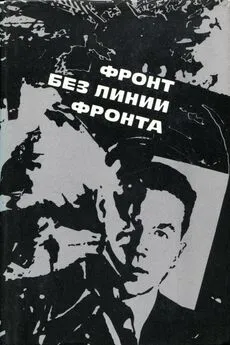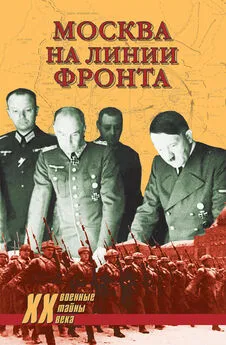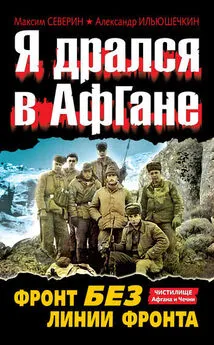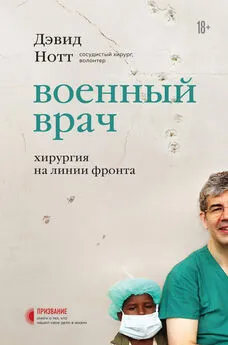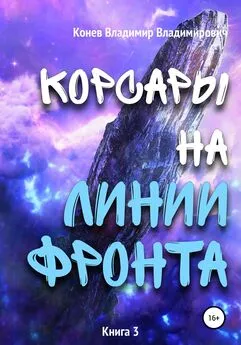Александр Бондаренко - Москва на линии фронта
- Название:Москва на линии фронта
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Вече
- Год:2012
- Город:М.
- ISBN:978-5-9533-6442-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Бондаренко - Москва на линии фронта краткое содержание
Предлагаемая вашему вниманию книга составлена на основе материалов газеты «Красная звезда», освещающих малоизвестные страницы Второй мировой войны, при этом особое место уделяется обороне Москвы. Читатели узнают — почему Гитлер не напал на СССР в мае 1941 года, был ли связан крах немецкой операции «Тайфун» с отказом от вступления в войну Японии. Известные историки излагают свое видение событий Великой Отечественной войны.
Москва на линии фронта - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
— Нет, это гораздо сложнее, и состояние населения также сыграло свою роль. Употребляется такое выражение: «Дух народа». Притом часто считают, что его определяют призывы вождей, газетные статьи… Это нечто другое, что входит в психику, в поведение людей, даже не отдающих себе в том отчета. Вот по телевизору была очень хорошая передача об обороне Ленинграда. Автор — историк, он все вроде сказал, кроме главного: почему Ленинград не сдался? А для меня такая проблема была ясна, еще когда я был мальчишкой, под Сталинградом мы вели разговоры с одним парнем, и я ему сказал, что город не сдадут именно потому, что он называется Сталинград, — Царицын бы давно сдали. Вот и Ленинград стоял до конца, потому что он назывался Ленинград, а не Санкт-Петербург. Немцы же не понимали, почему Ленинград не сдается, никто в мире не понимал! Это и есть сила «духа народа» — символы такого рода играли огромную роль в общественном сознании, и в массе, по крайней мере в самой активной части населения, сложилось такое психическое состояние, которое сломить было невозможно. Точно так же не могла быть сдана и Москва — столица Советского государства, «сердце Родины моей» — помните?
— А сейчас старательно объясняют, что все эти символы были надуманны и искусственны…
— Да я сам помню, когда нужно было прикрыть отступление, политрук призывал добровольцев-коммунистов! В подразделении не было ни одного члена партии, но добровольцами выступили все. В том числе и я, исключенный из комсомола, скрывавшийся от органов… Что это, патриотизм? Нет! Просто я уже сложился, вырос в советской системе как человек коммунистического общества. И этот фактор сыграл колоссальную роль.
— Вы в основном говорите об идеологических факторах. А как вы относитесь к такому понятию, как массовый героизм народа?
— Конечно, сыграло свою роль и то, что миллионы людей вели себя героически, но ведь герои были и у немцев, они вели себя по-мужски… Так что именно названные мною факторы — это и есть самое главное.
— А как вы расцениваете помощь союзников?
— Да, союзники нам помогали, но совсем не потому, что желали нам победы. И второй фронт они открыли не для того, чтобы нас спасать, — это мы их спасали, а они открыли фронт, потому что боялись, что мы «прочешем» всю Европу и по крайней мере возьмем себе всю Германию. В общем, они вступили в войну для себя. И напрасно у нас раздувают важность союзной помощи… Скажу честно, сколько я был на войне, я ни разу не ел их знаменитую тушенку. Один раз нам выдали английские гимнастерки с пластмассовыми пуговицами — так из-за этих пуговиц я попал в комендатуру! Как видите, к союзникам у меня свои счеты!
«ЕЩЕ ПОЛГОДИКА, ЕЩЕ, МОЖЕТ БЫТЬ, ГОДИК…»
(итоги 1941 года, планы на 1942-й)
Это заседание «круглого стола» было посвящено итогам 1941 года и планам Советского военного командования на 1942-й. Его участниками стали генерал армии Махмут Ахметович Гареев, доктор военных и исторических наук, профессор, президент Академии военных наук; Георгий Александрович Куманев, доктор исторических наук, профессор (Центр военной истории России, Институт российской истории РАН); Михаил Юрьевич Мягков, доктор исторических наук (Институт всеобщей истории РАН); Юрий Александрович Никифоров, кандидат исторических наук (Московский открытый педагогический университет им. М.А. Шолохова); Александр Семенович Орлов, доктор исторических наук (Институт военной истории Минобороны России); гвардии генерал-лейтенант в отставке Степан Ефимович Попов (в 1945-м — командир 3-й гвардейской артиллерийской дивизии прорыва РГК); Олег Александрович Ржешевский, доктор исторических наук, профессор (Институт всеобщей истории РАН), президент Ассоциации историков Второй мировой войны; полковник Владимир Анатольевич Семидетко, заместитель начальника Военно-мемориального центра Вооруженных Сил РФ; Владимир Васильевич Соколов, кандидат исторических наук (Историко-документальный департамент МИД РФ); Петр Владимирович Стегний, доктор исторических наук, директор Историко-документального департамента Министерства иностранных дел РФ. Заседание «круглого стола» вел писатель Александр Юльевич Бондаренко.
Гареев: По-моему, сейчас в военно-исторической науке сложилось крайне неблагополучное положение дел и по существу история войны начинает опустошаться. Попробуйте, например, сказать, что у Сталина были ошибки — хотя он сам это признавал, на вас немедленно обрушатся газеты ортодоксального толка: как, самого Сталина критиковать! Когда же я раскритиковал концепцию писателя Астафьева, на меня обрушились с «правого фланга»: самого Астафьева критиковал! Но ведь из истории нельзя никаких выводов извлечь, если не анализировать ее критически.
Притом, если одни хотя бы прикрываются патриотическими соображениями, вторые просто кричат, что вообще победы не было, а врага мы завалили трупами… Наука всегда отталкивалась от крайностей и приходила к золотой середине. К сожалению, сейчас между двумя этими крыльями нет золотой середины, здравого смысла. Наша задача — показать читателю, что такие подходы не годятся, не имеют ничего общего с наукой.
— Согласен. Цель, которую мы преследуем, проводя этот «круглый стол» по проблематике Великой Отечественной войны, — как можно ближе подойти к истине. Вопросов много: почему немцы оказались под Москвой осенью 41-го, можно ли было не допустить их до Сталинграда летом 42-го?
Гареев:Крупнейшая ошибка не только отдельных журналистов и публицистов, но и некоторых историков, когда они битву под Москвой или события 1942 года начинают рассматривать в отрыве от того, что было в начале войны…
Соколов:…и даже — еще до ее начала. Например, перед войной советское руководство уделяло большое внимание нашим дальневосточным рубежам, где с 1931 года, когда Маньчжурия, северо-восточные провинции Китая были захвачены Японией, беспрерывно происходили вооруженные столкновения. Кстати, на погранзаставе в Гродеково отбивал нападения японцев будущий посол в Китае Панюшкин…
— Думаю, имя Александра Семеновича Панюшкина прозвучит сегодня не раз, а потому уточню, что он служил в Погранвойсках, затем — в разведке. Был послом в Китае и в США, совмещая — что случалось крайне редко — эту работу с работой резидента. В 1953–1955 годах генерал-майор Панюшкин руководил внешней разведкой.
Соколов:Так вот, буквально за два месяца до начала войны советской дипломатии удалось заключить с Японией договор о нейтралитете. Причем министр иностранных дел Мацуока, который приехал в Москву из Берлина, где вел переговоры с гитлеровским руководством, узнал о планах по нападению на СССР и все-таки пошел на заключение договора о нейтралитете. Более того, 12 апреля он сказал Сталину, что возможен конфликт Германии с Советским Союзом, которые в ту пору находились вроде бы в дружбе. В этом случае, сказал министр, вы не должны опасаться каких-либо действий со стороны Японии… Между прочим, впервые за всю свою практику Сталин лично провожал министра на Северном вокзале!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: