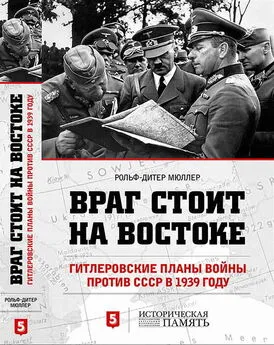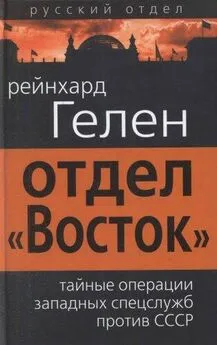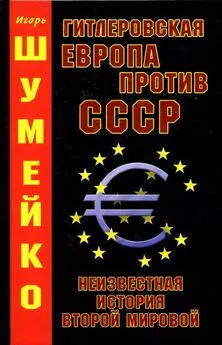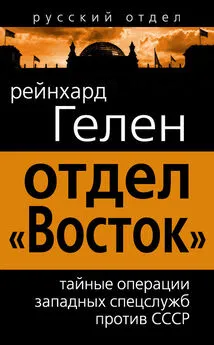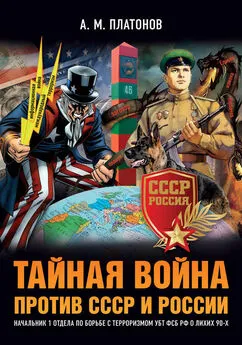Рольф-Дитер Мюллер - Враг стоит на Востоке. Гитлеровские планы войны против СССР в 1939 году
- Название:Враг стоит на Востоке. Гитлеровские планы войны против СССР в 1939 году
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Пятый Рим
- Год:2015
- Город:М.
- ISBN:978-5-9907593-1-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Рольф-Дитер Мюллер - Враг стоит на Востоке. Гитлеровские планы войны против СССР в 1939 году краткое содержание
Нападение на Советский Союз 22 июня 1941 года трактуется историками как заключительный этап гитлеровского плана по установлению «нового порядка» в Европе. Известный военный историк Рольф-Дитер Мюллер опровергает данное утверждение. На основании многочисленных малоизвестных источников, он доказывает, что Гитлер еще в 1933 году всерьез планировал войну против СССР. Нападение на Советский Союз оставалось для Гитлера idée fixe и в более поздние годы. Даже после подписания Советско-германского договора о ненападении, в сентябре 1939 года еще было возможно прямое столкновение вермахта с Красной Армией. При этом, вопреки мнению ряда публицистов, генералы вермахта не боялись такого развития событий, а, напротив, подталкивали фюрера к войне.
Рольф-Дитер Мюллер — германский военный историк, в 1999-2012 гг. научный директор Центра военно-исторических исследований Бундесвера. Ранее на русском языке была выпущена его книга «На стороне вермахта. Иностранные пособники Гитлера во время “крестового похода против большевизма”, 1941-1945 гг.» (М.: РОССПЭН, 2012).
Враг стоит на Востоке. Гитлеровские планы войны против СССР в 1939 году - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Другие военные цели тоже исходили из старых представлений: захват Прибалтики, Белоруссии и Украины, которые должны стать частью территории Германии.
Примечательно, что Гитлер не говорил о захвате Москвы и расположенных восточнее областей, а представлял себе операционную линию Ленинград — Смоленск — Киев — нижнее течение Днепра, которая в целом соответствовала модели 1918 г. В связи с ударом на Прибалтику он вообще-то упоминал «направление на Москву», что могло означать установление фронта напротив русской столицы после соединения обоих клиньев. По вопросу о Москве у него с Гальдером в последующие месяцы возникли неразрешимые разногласия, которые летом 1941 г. привели к неудачам Восточного похода.
Примечательно, что в рассуждениях Гитлера того времени совершенно не упоминается понятие расово-идеологической войны на уничтожение, как это себе представляет Гальдер, основываясь на опыте германо-советской войны. Достаточно емкую формулировку «уничтожение живой силы России» следует понимать в этом контексте как насильственно-идеологическое устранение, т. е. в смысле широко употреблявшегося тогда военного термина, также и цели по захвату территории не должны пониматься как чисто национал-социалистские. Такие политические вопросы, как оккупационная политика, вообще не затрагивались, иначе Гальдер сделал бы соответствующую запись в дневнике, как это случилось ранее в результате его разногласий с Гитлером относительно Польской кампании. Остается вопрос о значении формулировки «принять определенное решение». Но нам неизвестно, были это действительно слова Гитлера или только интерпретация Гальдера. При оценке решения, принятого 31 июля 1940 г., и для сопоставления его масштаба придется обязательно обратиться к совещанию, состоявшемуся 23 ноября 1939 г. На нем Гитлер заявил командованию сухопутных войск о своем «неизменном решении» совершить нападение на Францию. Тогда он отреагировал на нерешительность и обеспокоенность военных, а сейчас принялся за его оформление и утвердил основные положения. Соответствующее формальное указание последовало в 1940 г., спустя пять месяцев (директива № 21: план «Барбаросса» от 18 декабря 1940 г.), в 1939 г. оно было сделано за шесть недель до решающего совещания (директива № 6 о ведении боевых действий — для редакции: «о подготовке нападения на Францию» — от 9 октября 1939 г.).
Таким образом, можно вполне придерживаться того мнения, что совещание 31 июля 1940 г. стало, по сути, реакцией Гитлера на затянувшиеся раздумья военного командования. После того как британское правительство выразило полную готовность продолжать борьбу с Гитлером, стратегическая ситуация сильно изменилась и подтолкнула его к тому, чтобы снова обратиться к «проблеме на Востоке», придать ей первостепенную важность и приступить к обдумыванию плана войны против СССР, идеей которой он заразился еще год назад. Высказывания Гитлера могли так или иначе прозвучать еще 31 июля 1939 г., когда конкретно обозначилось британско-советское сближение, которое уже тогда вполне могло послужить толчком к началу планирования соответствующих военных мероприятий. И само собой разумеется, что ситуацию, которая повлияла на принятие этого решения, следует рассматривать на фоне общих политических целей Гитлера, а не как его простую реакцию на ход событий.
Широко распространенное в настоящее время представление о том, что преступная война против СССР с целью завоевания жизненного пространства связана с «неизменным решением» Гитлера от 31 июля 1940 г., способно затушевать ту общую модель войны, которая неизменно существовала с 1934 г. Война на Востоке, а речь идет именно о таком ее понимании, была преподнесена фюрером военному командованию как некий нелюбимый и непонятный проект далеко не в тот день. Эта легенда, успешно и широко распространенная в послевоенное время главным образом Францем Гальдером, скрывает собственную инициативу и солидарную ответственность верхушки военного руководства, которая якобы «противилась решению фюрера» в развязывании величайшей кровавой войны в мировой истории. Ее приводной механизм скрывался не в нацистской идеологии завоевания жизненного пространства, при всем ее сходстве с идеями национал-социализма, а в обычном поведении военных. Утверждение о том, что Гитлер 31 июля 1940 г. принял решение о начале войны на Востоке, исходя из идеологических соображений, представляет собой конструкцию, выдвинутую главным образом историком Андреасом Хилльгрубером, который в 1954 г. тем самым поставил под сомнение или дополнил легенду Гальдера о стратегических причинах со стороны Гитлера {466} 466 Vgl. Hillgrubers Diskussion mit Weinberg: Seraphim / Hillgruber, Hitlers Entschluss, mit Schlusswort von Weinberg, ebd. S. 249–254.
.
БОРЬБА ЗА ПЛАН ОПЕРАЦИИ
В записях Гальдера за 31 июля 1940 г. нет никаких замечаний относительно дискуссии с Гитлером, а Браухич утаивает высказанные накануне фюрером слова о том, что лучше бы сохранять мир с СССР. Зато его начальник Генштаба, возвратившись на самолете в Фонтенбло, торопится внести коррективы в планирование Восточной кампании. В качестве дополнения к вопросам оперативного планирования Гальдер приказывает продумать работу служб тыла из расчета на проведение крупной операции на Востоке и организации там военного управления. Из этого еще раз видно, что 31 июля Гитлер явно не давал никаких указаний относительно характера войны и об отношении к населению. Поэтому генерал-квартирмейстер Вагнер мог двигаться дальше в своей работе по накатанному пути.
Ключевое слово Гитлера «Москва» имело для Гальдера наибольшее значение. Если Гитлер не был готов вести переговоры о германской аннексии Прибалтики и Украины, как это случилось в 1918 г. в Брест-Литовске с русским руководством, а сейчас происходит с посткоммунистическим правительством, то это имело далекоидущие последствия для оперативного плана. Сам Гитлер, пожалуй, не беспокоился об этом. Если даже исходить из того, что с началом войны мог наступить политический крах советской системы, то возникал вопрос о том, кто станет править на огромной незанятой части этой гигантской империи. Гитлер дал ответ на этот вопрос год спустя: полностью занять всю европейскую часть России и превратить ее в «жизненное пространство», защитив его выдвинутой далеко на восток «военной границей», как это было во времена Австро-Венгерской монархии на Балканах, т. е. рассчитывать на постоянные стычки и бои с новыми центрами власти, которые могут возникать за Уралом. Гальдер 1 августа 1940 г. еще не зашел так далеко. Его в большей мере занимала необходимость скорейшей победы в Восточной кампании, чтобы высвободить связанные на Востоке силы для продолжения войны на Западе. А для окончания войны в сжатые сроки, исходя из традиционных представлений, требовалось нанести прямой удар по столице и взять ее. Тем самым военная задача была бы в основном выполнена, и в дело вступала бы политика.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: