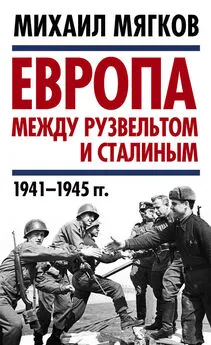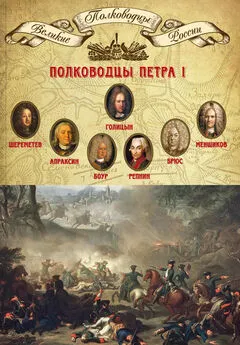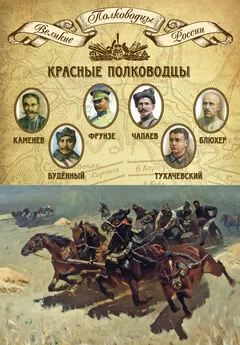Михаил Мягков - Европа между Рузвельтом и Сталиным. 1941–1945 гг.
- Название:Европа между Рузвельтом и Сталиным. 1941–1945 гг.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Алгоритм
- Год:2017
- Город:М.
- ISBN:978-5-906914-99-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Мягков - Европа между Рузвельтом и Сталиным. 1941–1945 гг. краткое содержание
– что стало решающим фактором в решении союзников все же открыть «второй фронт»?
– кем выстраивалась глобальная система послевоенной безопасности и как создавалась Организация Объединенных Наций?
– кто и почему выступал против политики тесного взаимодействия Вашингтона и Москвы?
– почему именно факт становления России как одной из двух послевоенных сверхдержав предопределил неизбежное столкновение интересов США и СССР, которое проявилось прежде всего на пространстве Европы?
Усвоив уроки прошлого благодаря этой книге, читатель сможет разобраться в настоящем и понять, чего ждать на современном этапе от взаимоотношений России, США и Европы.
Европа между Рузвельтом и Сталиным. 1941–1945 гг. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В книге Гэддиса можно найти немало важных заключений. Но весьма спорными представляется утверждение об агрессивном характере советского продвижения в Центральную Европу, разоренную войной и получившую свободу именно из рук Красной армии. Именно она внесла решающий вклад в победу над Германией с ее человеконенавистнической идеологией и практикой. Если говорить об противоположности «империй» СССР и США, не следует забывать об экономическом состоянии этих стран в конце войны, возможностях выделять деньги на программы помощи другим нациям, различиях во внутреннем положении самих государств Европы накануне и в годы Второй мировой войны, которое не могло на влиять на характер их режимов и уровень жизни после 1945 г. Монопольное же владение американцами ядерным оружием и дальнейшее форсированное его наращивание даже в условиях испытаний СССР собственной атомной бомбы вылилось в разработку в США целого ряда военных планов удара по Советскому Союзу. Кроме того, отказ Рузвельта официально информировать Москву о ядерных достижениях США не мог не восприниматься Сталиным как явное недоверие, граничащее с возможностью будущего силового давления. Этот момент в причинах свертывания сотрудничества двух стран, взаимных оценок друг друга, причин нарастания конфронтации требует дальнейшей тщательной разработки.
Следуя в русле «постревизионистской» школы изучения холодной войны и стремясь глубже рассмотреть глубинные предпосылки послевоенной конфронтации между великими державами, Дж. Гэддис не останавливается на достигнутых выводах и даже пытается внести в них определенные коррективы. В своей очередной книге «Холодная война. Новая история» 34он не акцентирует внимание на виновности Сталина в начале противоборства западного и восточного блоков, а объясняет происхождение холодной войны столкновением двух принципиально различных представлений о будущем развитии мира и двух теорий организации общества. Хотя его предпочтения очевидны: Запад для него – олицетворение демократии, а Восток – диктатуры и командно-административных методов. Видимо, это не последняя работа известного американского историка, относящаяся к причинам военного сотрудничества и последующего столкновения интересов СССР и США.
В уже упомянутом выше предисловии к изданию в 2005 г. полной корреспонденции между Рузвельтом и советским лидером за военный период «Мой дорогой мистер Сталин» А. Шлезингер (мл.) попытался глубже разобраться в причинах установления тесных контактов между двумя руководителями, их подходах к послевоенному устройству мира. Он, в частности, замечает, что Рузвельт не питал иллюзий относительно Советской России и не был наивен в ведении дел со Сталиным. И Сталин также не особо доверял президенту. Однако Рузвельт видел в советском лидере того человека, с которым можно работать, несмотря на различия в идеологиях двух стран, руководителя, способного отойти от жестких доктрин. «Решимость Рузвельта искать расположения у Сталина, работать от начала до конца и вместе с ним, – пишет историк, – основывалась на рефлексах проницательности и хитрости искушенного мастера политики. В изменении образа мысли Сталина был единственный шанс для Запада сохранить мир», – заключает он 35. Стоит добавить, что в последнем утверждении Шлезингера возможно было проставить более объективные акценты. Поскольку не все зависело только от Сталина, и измененный образ мысли западных политиков также давал шанс СССР, сохранив свою безопасность, участвовать в обеспечении международной стабильности в послевоенное время. Историк обращает внимание на то, что после войны «в условиях разгрома агрессоров, истощения потенциала европейских стран, развала колониальных империй в мире оставались только два государства – США и СССР – которые обладали динамизмом, чтобы заполнить вакуум, образовавшийся после расстройства прежнего международного порядка. Эти два государства были построены на противоположных и антагонистических принципах, удивительным образом воплощенных в Ф. Рузвельте и И. Сталине. Ни для кого не сюрприз, что произошло в дальнейшем. Напротив, настоящим сюрпризом стало бы отсутствие холодной войны». Говоря о том, что рузвельтовское желание продолжить альянс с Москвой и в послевоенное время наткнулось на тяжелую скалу сталинской идеологии, Шлезингер забывает упомянуть объективный факт распространения коммунистических и левых настроений в Европе под влиянием побед Красной армии, с которыми не могли не считаться западные лидеры 36.
Из новых работ западных историков, посвятивших свои исследования непосредственно Ф. Рузвельту, его ближайшим помощникам, а также работе американской дипломатии на советском направлении, следует отметить книги К. Блэка и Д. Данна 37. Они очень информативны и помогают глубже разобраться в динамике американской внешней политики и оценок возможностей России в 1939–1945 гг. Отношениям между союзниками по Большой тройке, в то числе СССР и США в 1939–1945 гг., дискуссиям между Сталиным, Рузвельтом и Черчиллем относительно послевоенных границ и будущего устройства Европы, истокам начала холодной войны посвящены коллективные труды под редакцией Д. Рейнольдса «Истоки холодной войны в Европе: Международные перспективы» и под редакцией А. Варсори и Е. Каландри «Неудача мира в Европе, 1943–1948» 38. В труде под редакцией Д. Рейнольдса выделается глава «Большая двойка», первую часть которой, «Соединенные Штаты» (с. 23–52), была подготовлена А. Стефансоном, а вторая «Советский Союз» (с. 53–76) – В. Зубоком и К. Плешаковым. Андерс Стефансон, проводя глубокий анализ западной историографии, посвященной причинам холодной войны, равно как и историк Макколи, пытается глубже разобраться в том влиянии, какое идеи Вильсона оказали на американскую внешнюю политику в годы Второй мировой войны. Владислав Зубок и Константин Плешаков основной упор делают на разборе влияния архивных источников, воспоминаний и устных свидетельств о деталях и характере внешней политики Советского Союза 1941–1953 гг., ставших доступными историкам лишь в последнее время.
В работе «Неудача мира в Европе, 1943–1948» весьма интересна глава, написанная К. Швабе «Соединенные Штаты и Европа от Рузвельта до Трумэна», – хотя многие положения автора и вызывают неоднозначную реакцию. К. Швабе одной из главных своих задач посчитал ответ на вопрос, насколько Трумэн явился преемником внешнеполитического курса Рузвельта, прежде всего в отношении России. Он прослеживает сложную динамику размышлений и оценок Рузвельта, касавшихся обеспечения послевоенной безопасности, функций «четырех полицейских», участия США и России в мирном устройстве Европы, и приходит к выводу, что Трумэн во многом следовал в фарватере внешней политики и «универсалистских» идей будущего мироустройства, обозначенных его предшественником. Неудача же послевоенного сотрудничества Соединенных Штатов и Советского Союза произошла как раз вопреки «универсалистским» идеям Рузвельта. Трумэн также стремился, чтобы Европа осталась политически единой и двигалась по пути демократического развития. Но новый президент был вынужден учитывать позицию ведущих специалистов по советским вопросам, государственных деятелей, военных и дипломатов, считавших курс Москвы в европейских делах негибким, антидемократическим и потенциально угрожающим свободам западного мира. Не видя готовности Сталина достигнуть конструктивного взаимодействия по многим «назревшим» и «перезревшим» проблемам, Белый дом встал на путь требования от СССР четкого соблюдения духа и буквы предыдущих договоренностей 39.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: